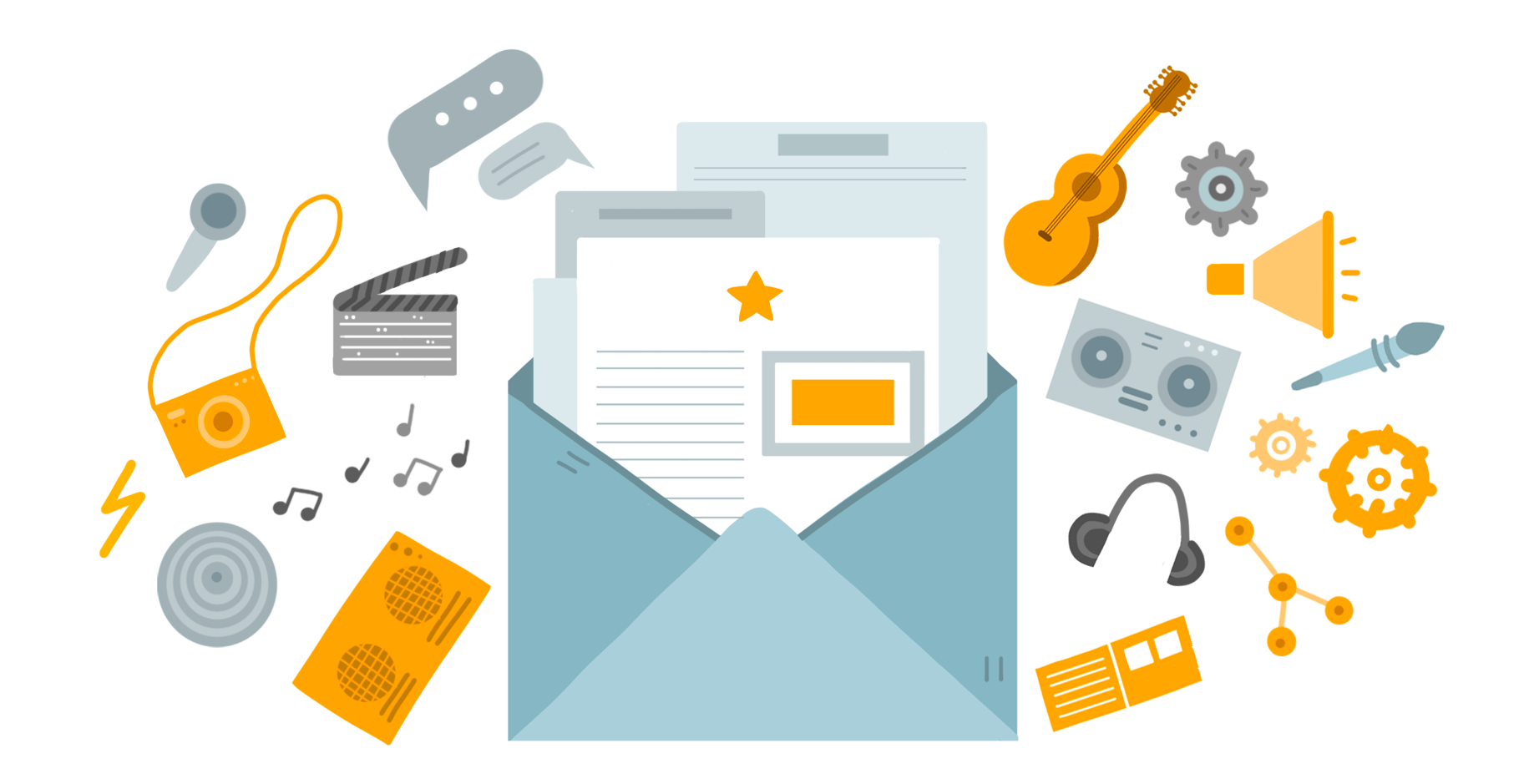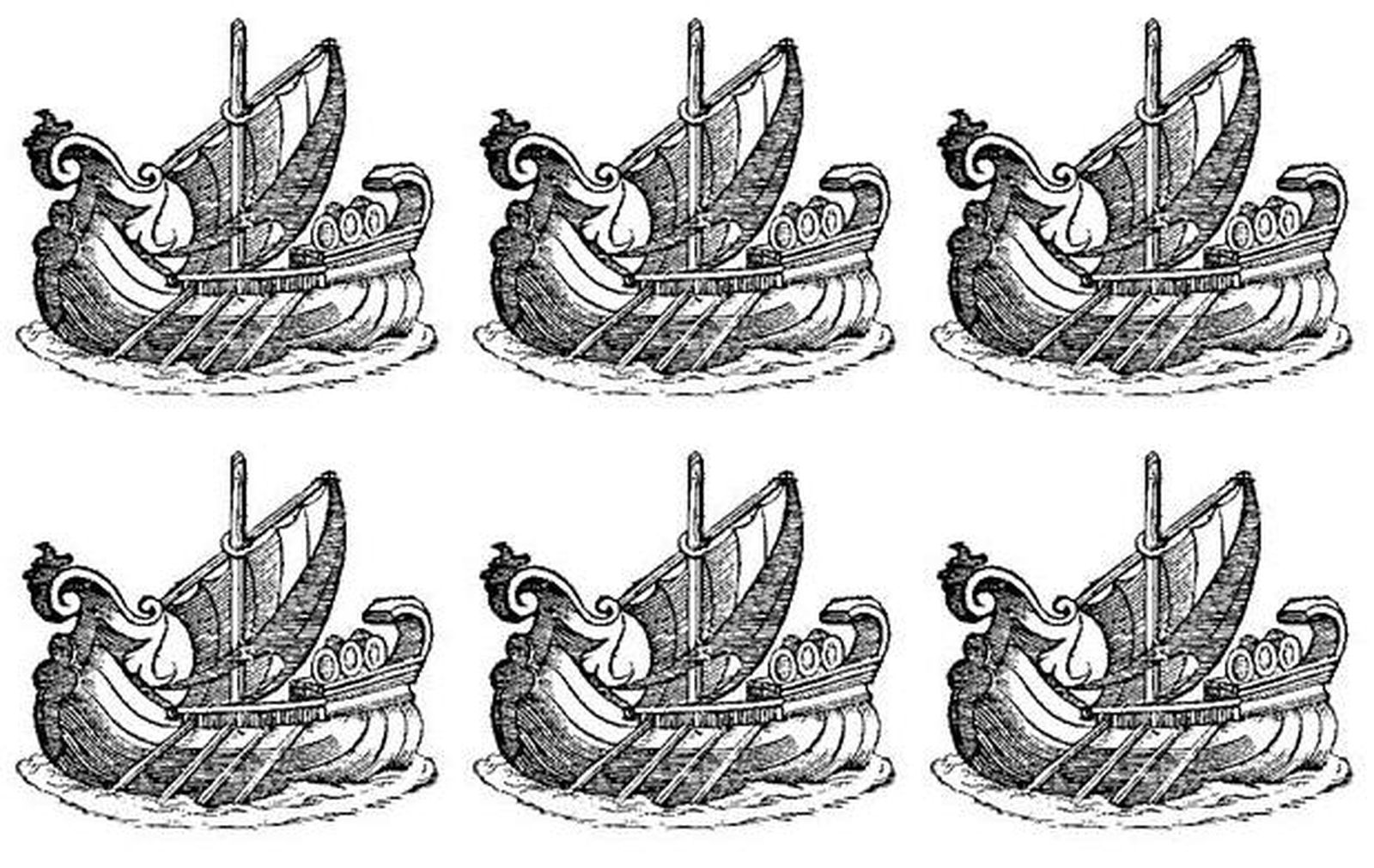Мир, в котором мы живем, явлен нам через призму нашего языка и воспринимается нами не как ряд чистых объектов, но как множество заранее наделенных качествами предметов и событий. Стратегии этого наделения — приемы иносказания, тропы. Смысл и значение главных из них будут даны в статье, а их действие, проявленное в отражениях эмблематического парусника, — в иллюстрациях к ней.
Прямое значение слова подобно магистрали, проложенной между означающим и означаемым в чисто прагматических, утилитаристских целях. Возможно, оно встречается в повседневной речи даже реже, чем в объективирующих практиках науки, войны и инструкции по сборке мебели. Но если свернуть с торной дороги, то можно обнаружить тропы (да простит читатель этот невольный каламбур), уводящие к иным, маргинальным смыслам — тропы, где еще различимы следы диалога человека с миром.
Собственно, τρόπος — и есть поворот, оборот речи, сделанный ради ее выразительности; это жест, обнажающий личный подход говорящего к означаемому. Такой оборот речи может быть оригинальным, а может быть «стертым», где уже не замечается никакой иносказательности, но очевиден человеческий взгляд на вещи: вот кипит чайник, вот свет поднимающегося над горизонтом солнца блестит на горлышке бутылки, хотя ближе к правде будет сказать, что кипит вода; Земля, вращаясь вокруг своей оси, поворачивается к Солнцу, и свет отражается на сужающейся вверху части бутылки.
В каждом тропе скрыта позиция, с которой возможен подобный взгляд, каждый троп со своей стороны берется описать объект, передать полученное от него впечатление, актуализировать ту или иную его сторону или качество. Тропы присутствуют и в будничной речи, и в выступлениях политиков и комиков, и в мемах, и в экономической терминологии, и в журнальных статьях. И, конечно же, эти стратегии используются в художественной литературе, где создается стереоскопическое пространство языка. К той или иной поэтической единице, чтобы ощутить ее объем, можно примерить сразу несколько тропов. Классическим примером будет лермонтовский «Парус», точка пересечения трех тропов. В этой статье будет дано определение основных тропов, а иллюстрировать их действие будет другой парусник, взятый из книги эмблем Андреа Альчиато.
Следует отметить сразу, что само понятие «троп» размыто: существуют не только разные определения этого понятия, но и разные классификации, разные определения самих тропов. Поэтому субъективности в данном разборе не избежать. Разумеется, основные споры и сложности будут проговорены.
Тропы как явление были выделены в античной риторике, где также были квалифицированы фигуры речи. Это, пожалуй, первая из сложностей классификации: с одной стороны, тропы являются фигурами речи, а с другой стороны, их следует отделять от собственно фигур. Их отличие состоит в том, что тропы актуализируют лексический потенциал языка, то есть работают с семантикой слов, а фигуры — с синтаксисом, то есть с их сочетанием.
Одна из сложностей — дать верную дефиницию понятию «троп». Приведем несколько вариантов из отечественного литературоведения. Так, Б. В. Томашевский считает, что тропы — «приемы изменения основного значения слова», Г. Н. Поспелов указывает на выразительность слов, как на главную черту тропов, а С. И. Кормилов определяет тропы как «употребление слов в переносном значении, призванном усилить образ поэтического и вообще художественного языка».
Следующая сложность — разработка правильной классификации тропов — возникла из-за достаточно зыбкой границы между тропами как приемами иносказания и более широкими способами художественного мышления. Так, например, аллегория — конкретный образ, используемый для выражения отвлеченных понятий, может считаться тропом — и признана таковым, например, в «Опыте риторики» И. С. Рижского, — а порой истолковывается более широко. И с этих позиций аллегорией можно считать роман Оруэлла «Скотный двор».
Также интересно сравнить аллегорию с другими тропами. Так, например, Фемида — аллегория правосудия, жрец Фемиды — перифраз (описательное обозначение объекта), «наша Фемида — уважаемая Анна Ивановна» — антономазия (замена нарицательного именем собственным), а «почтеннейшая Фемида по имени Анна Иванна» — это уже антифразис, то есть употребление хвалебных слов с целью представить объект в дурном свете. Во многих случаях аллегория близка к антономазии и отлична от нее прежде всего тем, что выражает отвлеченные, а не конкретные понятия, и порой это различие выделяется только контекстуально.
Среди теоретиков литературы существуют также споры о статусе сравнения, олицетворения, символа, оксюморона, эпитета. На этой почве возник вопрос об изначальных, главных тропах, которые можно считать основными приемами словесной выразительности, а остальные тропы — их вариациями.
Три основных тропа: метафора, метонимия, синекдоха
Амбициозное стремление некоторых литературоведов превратить литературоведение и лингвистику в строгие и точные науки напрямую связано с задачей определить некий первичный основной троп. Решение этой проблемы позволило бы на практике получить ответ на вопрос о природе иносказания, а значит, и смыслообразования. Впрочем, еще в 19 веке русские филологи указывали на изначальную метафоричность каждого слова (А.Н. Веселовский), различимую во «внутренней форме слова» (термин А.Ф. Потебни). В двадцатом веке стала популярной идея о строении культуры по принципу бинарных оппозиций, и были выделены два основных тропа-антагониста — метафора и метонимия: «сходство по подобию» и «сходство по смежности» соответственно. Один из основателей структурализма Роман Якобсон отмечал, в частности, что метафора свойственна, главным образом, поэзии, а метонимия — прозе, и называл романтизм и символизм направлениями метафоры, а реализм — метонимии. Мнение же о том, какой из двух тропов считать первичным, среди структуралистов разделилось, существовало даже мнение о том, что таковым считается синекдоха, чаще определяемая как разновидность метонимии. Чтобы суть этого спора была понятной, приведем определения этих тропов:
Метафора — «сближение по подобию», термин Аристотеля. У древнегреческого философа метафора имела более широкое значение, чем сегодня, и была связана с концепцией мимесиса. Можно сказать, что аристотелианская метафора — это то же, что и троп сегодня, с тем лишь отличием, что троп не обязательно должен быть вспомогательным термином той или иной эстетической концепции.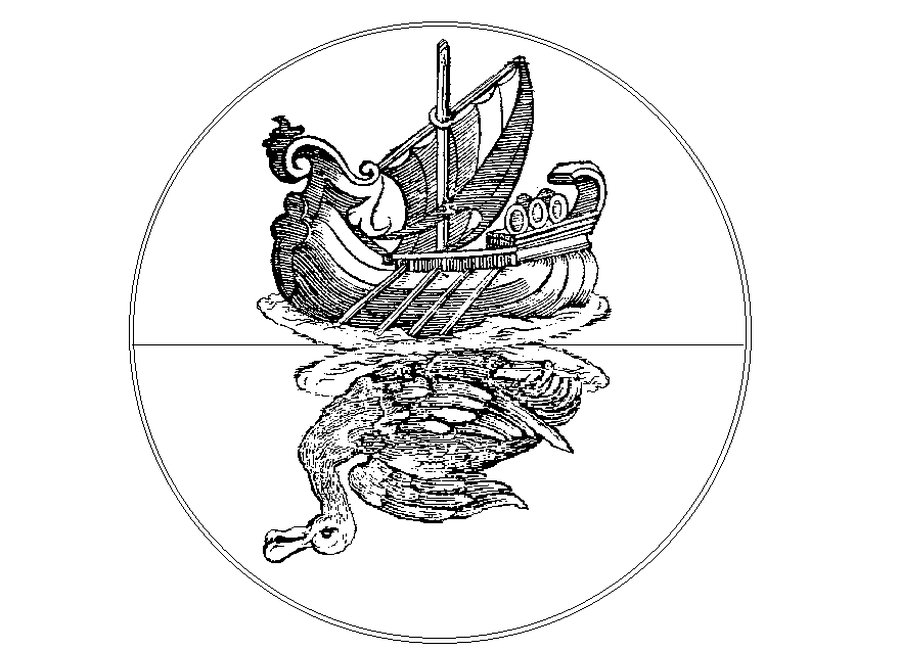
Буквальный перевод с древнегреческого слова μεταφορά — «перенос». Метафора — это перенос признака одного предмета на другой, а точнее — уподобление одного предмета другому по тому или иному признаку. Грубо говоря, метафора — предельно сжатое сравнение. Так, метафора «корабль лебедем плывет», можно дешифровать как «корабль плывет изящно, как лебедь» или «корабль похож формой на лебедя». Но вернее увидеть в этой метафоре жест обнаружения в конкретном предмете качества того или иного культурного знака. В формуле «корабль лебедем плывет» конкретный корабль сравнивается с абстрактным лебедем: в первом выделяются черты, которыми наделяется традиционно лебедь в культуре. Естественно, и корабль здесь — культурный знак, но, так или иначе, он более конкретизирован хотя бы потому, что на нем было сфокусировано внимание автора. В данном смысле метафора может считаться авторским актом переработки содержания того или иного культурного знака. В авторский культурный знак «корабль» вносятся свойства «лебедя», по умолчанию принятые за этим знаком. Так, например, Есенин отождествляет конкретные грозди рябины с общепринятым костром в строке «горит костер рябины красной», а Ахматова сравнивает определенные «пустые небеса» с «прозрачным стеклом».
Метафора интересна тем, что отвлеченное понятие в ней может быть более конкретизировано, а конкретный предмет может быть представлен как символ той или иной абстракции. Так, например, слова Гамлета из перевода Пастернака «порвалась дней связующая нить» в емком и зримом образе представляют поворот в жизни принца, разрыв в связи времен, который ему нужно устранить. В то же время нить являет в себе символ линейности, четкой последовательности.
В поэзии конца двадцатого века из метафоры возник новый троп «метаметафора», то есть «метафора в квадрате». Термин предложил поэт Константин Кедров и указал на его использование в герметичной поэзии метареализма. С помощью метаметафоры поэты пытались указать на метафизическую глубину метафорической связи двух явлений. Дмитрий Кузьмин приводит пример в стихотворении Михаила Еремина:
Рангоут окна — созерцать застекленные воды,
Из коих явленный,
Три века дрейфующий кеннинг
На диво — проклятья, потопы, осады и бунты –
Остойчив, а розмыть –
Ну, слава-те, вот и сподобились:
ныне, как некогда,
В два клюва, –
Кровавую печень клюет.
Критик отмечает, что в этих строках зашифровано возвращение Петербургу дореволюционных знаков власти: «речь идет о 300-летии Петербурга, которое город встречает с восстановленной имперской символикой — двуглавым орлом».
Этот пример мог бы служить опорой предположению, что метаметафора является простым усложнением метафоры: «горит костер рябиной чистого стекла» или даже «горит пустых небес костер рябиной чистого стекла». Однако более справедливо назвать метаметафору не тропом — а метареалистическим концептом, описывающим стратегию поэтического миросозерцания.
Метонимия — «сближение по смежности». Это замена одного предмета и явления другим, логически или физически с ним связанным, использование заменяющего слова в переносном значении. 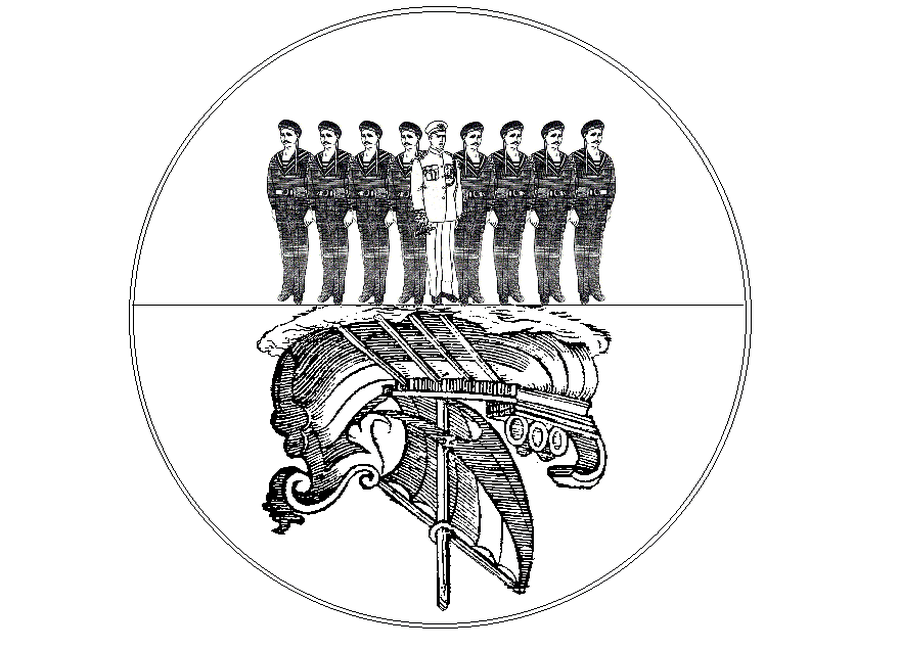
Существует два основных вида метонимии: лексическая и дискурсивная. К лексическим метонимиям относятся прочно вошедшие в язык переносы: так, герой басни Крылова «Демьянова уха» использует именно лексическую метонимию, когда уверяет излишне гостеприимного хозяина, что «три тарелки съел». Дискурсивные метонимии зависят от конкретной ситуации и вне этой ситуации не употребляются. В описании церковного шествия перед Бородинским сражением в «Войне и мире» Л. Толстого происходит перенос с носителей иконы на саму святыню: «Взойдя на гору, икона остановилась; державшие на полотенцах икону люди переменились, дьячки зажгли вновь кадила, и начался молебен».
Одна метонимия может быть расширена до целого метонимического ансамбля. Например, метонимия «весь корабль пировал в таверне», где под кораблем подразумевается его команда, может быть расширен в последующем предложении: «кубрик распивал горячительные напитки, а камбуз пытался обыграть мостик в снукер», где соответственно под кубриком подразумеваются матросы, под камбузом — кок, под мостиком капитан. Часто такое расширение призвано создавать комический характер. Если бы по законам жанра пир моряков перешел бы в драку, то тут бы пошли уже метафорческие соответствия — покалеченные части тел уподоблялись бы такелажу и снаряжению корабля.
Разновидностью метонимии является синекдоха — как троп, в котором целое называется по его части, родовое название по видовому — и наоборот. Хрестоматийные примеры — ликующий француз из «Бородино» Лермонтова, представляющий всю армию Наполеона, и идущие в гости флаги из «Медного всадника» Пушкина, где под флагами подразумеваются государства.
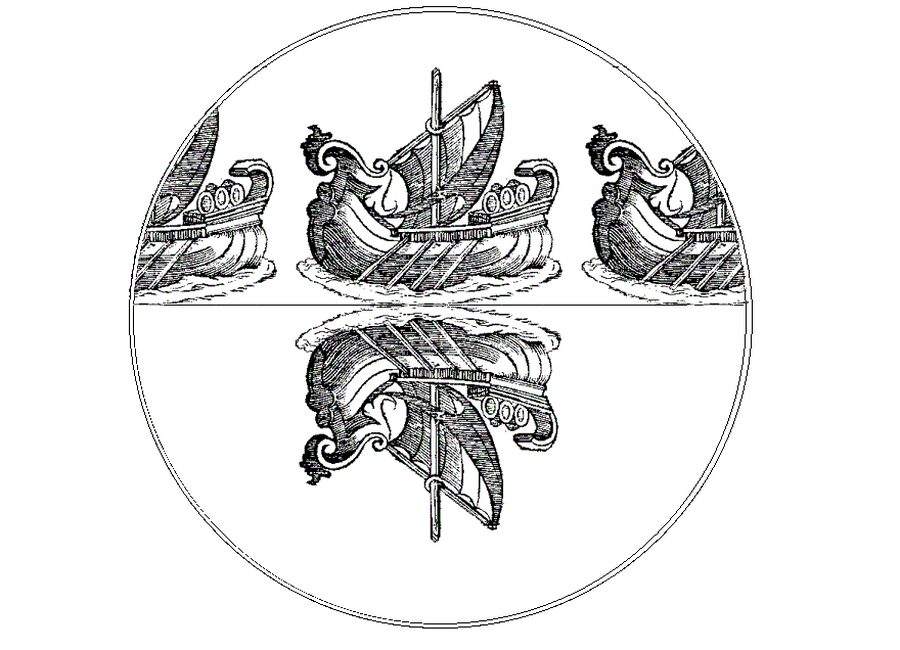
Литературовед-структуралист Ц. Тодоров указывал, что метонимия и синекдоха работают по разным принципам. По его мнению, в основе синекдохи лежит отношение включения, тогда как в метонимии — исключения. Синекдоха исходит из способности разложения целого на части, метонимия — из способности взаимоисключающих вещей входить в новое широкое целое. Также метонимию и синекдоху различают как принципиально разные по содержанию тропы: метонимия основана зачастую на ситуативных пространственно-временных отношениях и, соответственно, на отношениях причины и следствия, синекдоха же основана только на отношениях части и целого. Так или иначе — является синекдоха отдельным тропом или разновидностью метонимии — определение синекдохи одинаково для обоих лагерей этого спора.
Ирония
Американский теоретик литературы Кеннет Берк выделяет не три, а четыре «старших тропа». Кроме трех вышеупомянутых таким тропом является ирония. Другой американский литературный деятель Хейден Уайт так охарактеризовал иронию: «По сравнению с этими тремя тропами, которые я характеризую как „наивные“ (поскольку к ним можно прибегать только с убеждением в способности языка схватывать природу вещей в фигуративных терминах), троп Иронии выступает как <…>„само-сознающий“ собрат. Предполагается, что Ирония по существу своему диалектична, поскольку представляет собой осознанное использование Метафоры в интересах словесного самоотрицания». Вслед за Берком Уайт указывает на связь иронии с диалектикой, «пусть не столько в своём постижении процессов мира, сколько в осознании способности языка затемнять больше, чем он проясняет в любом акте словесного воплощения». Он указывает также на то, что ирония «метатропологична»: она проявляется в использовании других тропов, но в абсурдном, алогическом ключе. Продуктом такого использования называется катахреза, «явно абсурдная метафора». Примеры катахрезы — «зеленый шум» Н. А. Некрасова и «молчаливый голос» А. П. Платонова — сочетание несочетаемых понятий. Трактовка катахрезы как проявления иронического указывает в первую очередь на присущую иронии автореферентность, обращенность на себя, именно поэтому она так важна для романтизма и тем более постмодернизма. Рефлексирующая по поводу собственной языковой реальности ирония есть проявление скептического отношения к попыткам «схватить в языке истину вещей». Именно поэтому ирония часто присутствует в сатирических произведениях, осмеивающих все, что пытается себя выставить в свете последней истины. Следует все же заметить, что ирония — необязательно комическое средство. Иронический трагизм присутствует в «Степном волке» Г. Гессе, где герой с горькой усмешкой повествует о поисках своей самости.
Среди тропов, производных от иронии, следует выделить астеизм и антифразис. Они противоположны друг другу: если в астеизме восхваление скрыто выражено в уничижительной характеристике, то с помощью антифразиса, наоборот, расписываются всевозможные достоинства того или иного предмета или лица, хотя подразумевается обратное. В явных формах антифразиса и астеизма может использоваться качественная катахреза или, если сказать точнее, оксюморон: «обладатель скромного дворца», «жители благородных трущоб».
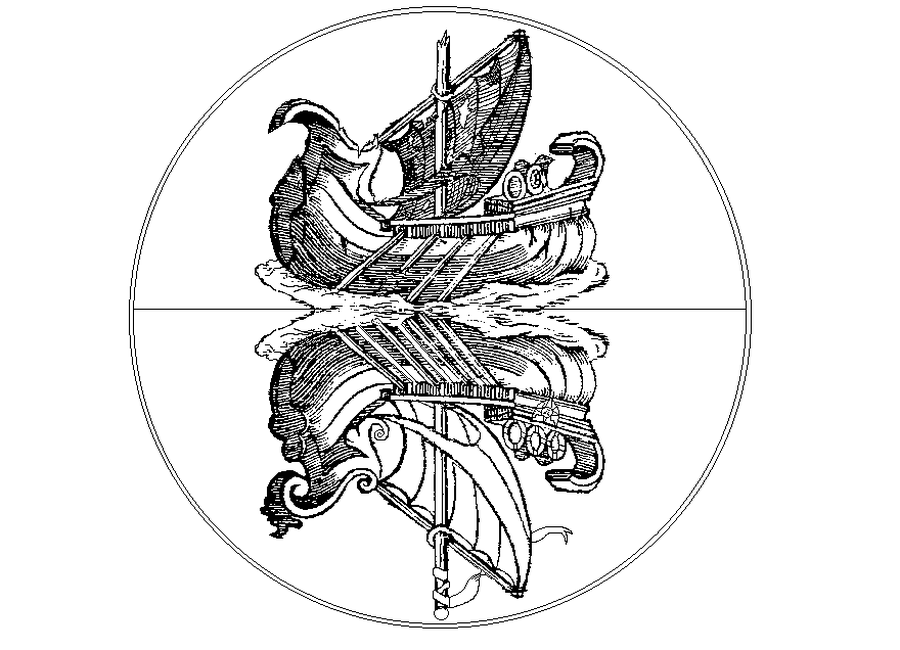
Самый известный пример астеизма — «ай да Пушкин, ай да сукин сын!», фраза из письма А. С. Пушкина П. А. Вяземскому.
Еще один пример, где слова с отрицательным значением подаются как положительная характеристика:
»…Черт так не сыграет, как он, проклятый, играл на контрабасе, бывало, выводил, шельма, такие экивоки, каких Рубинштейн или Бетховен, положим, на скрипке не выведет. Мастер был, разбойник» (А. П. Чехов. «В приюте для неизлечимо больных и престарелых»).
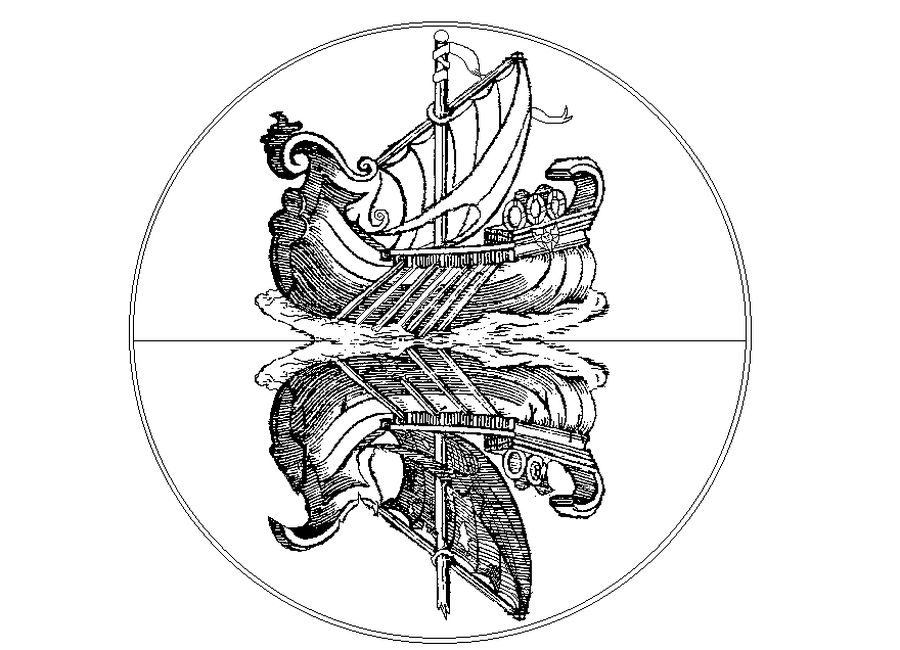
Очевидный пример антифразиса — характеристика главной героини басни «Слон и Моська» И. А. Крылова:
«Ай, Моська, знать, она сильна,
Что лает на слона».
Не-тропы: гипербола, литота, мейозис
К четырем «старшим тропам» Берка американский литературный критик Гарольд Блум добавляет еще два — гипербола и металепсис, «царящие в постпросвещенческой поэзии».
Металепсис — замещение одного слова другим, часто предшествующего понятия последующим эмблематическим знаком — «до могилы» вместо «до смерти», «сума» вместо «разорение».
Достаточно большое количество сложностей возникает вокруг приемов преувеличения и преуменьшения: гиперболы, литоты и мейозиса. Достаточно остро стоит вопрос о том, являются ли они тропами вообще. Гипербола может считаться не тропом, а собственно фигурой, так как она «определяется не свойством самого образа, но применением его в речи»; в других исследованиях гипербола считается частным случаем метафоры как сближение по сходству с предметом, обладающим более сильной характеристикой. Приверженцы этой точки зрения приводят пример из романа А. Ананьева «Танки идут ромбом»: «он уже теперь начал понимать, что едва ли удастся остановить лавину вражеских танков», где «лавина танков» является примером гиперболической метафоры.
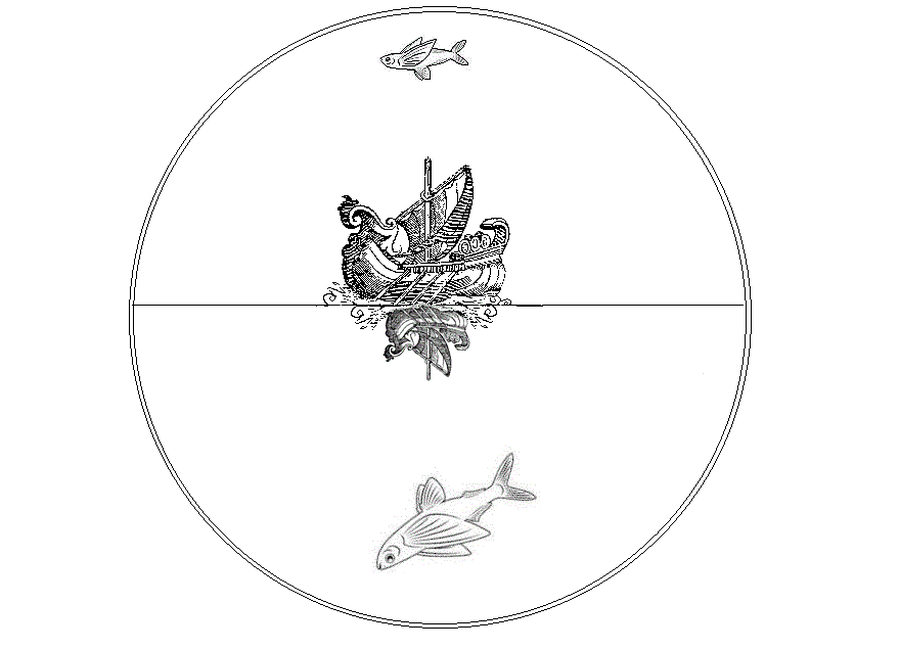
Следует также отметить, что кроме гиперболы преувеличения выделяется также гипербола преуменьшения, часто отождествляемая с литотой. Таким образом, можно заметить, что любая метафора содержит в себе гиперболическое начало, поскольку строится на принципе выделения в предмете признака посредством сравнения этого предмета с другим, где этот признак обозначен более ярко. Однако гипербола при этом же понимается как механизм внутри метафоры, а не самостоятельный троп. И все же гипербола может и не идти на сближение с метафорой, особенно если это метафора количественная, как например, «щетки тридцати родов Евгения Онегина». Образная гипербола, далекая от метафоры, может указывать на преувеличение признаков с помощью реализации этих признаков. Особенно часто такая гипербола присутствует в героических сказаниях и былинах. Так, например, описывается бросок сохи героем одноименной былины Микулой Селяниновичем: «Полетела соха до облака, упала соха за ракитовый куст, в сырую землю по рукоятки ушла».
Что же тогда является литотой и мейозисом? Литота может выступать как смягчение резкого определения заменой на антоним с отрицательной частицей. Литота часто используется в «Слове о полку Игореве»: «Вы же, Ингвар, и Всеволод, и все три Мстиславича, не худого гнезда шестокрильцы» (то есть благородного происхождения).
Мейозисом же называется «преуменьшение нормального или большего, чем нормальное», то есть намеренное обесценивание признаков предмета, а не подчеркивание их незначительности. Соответственно, литота с четким грамматическим строем и семантически совпадающая с мейозисом часто считается его разновидностью. («Что ж, это не дурно для меня, — отвечал, в свою очередь, с усмешкой князь. … — В коляске меня проводите? Это недурно! — произнес Миклаков снова комически и снова не без оттенка самодовольства». — А. Ф. Писемский «В водовороте»).
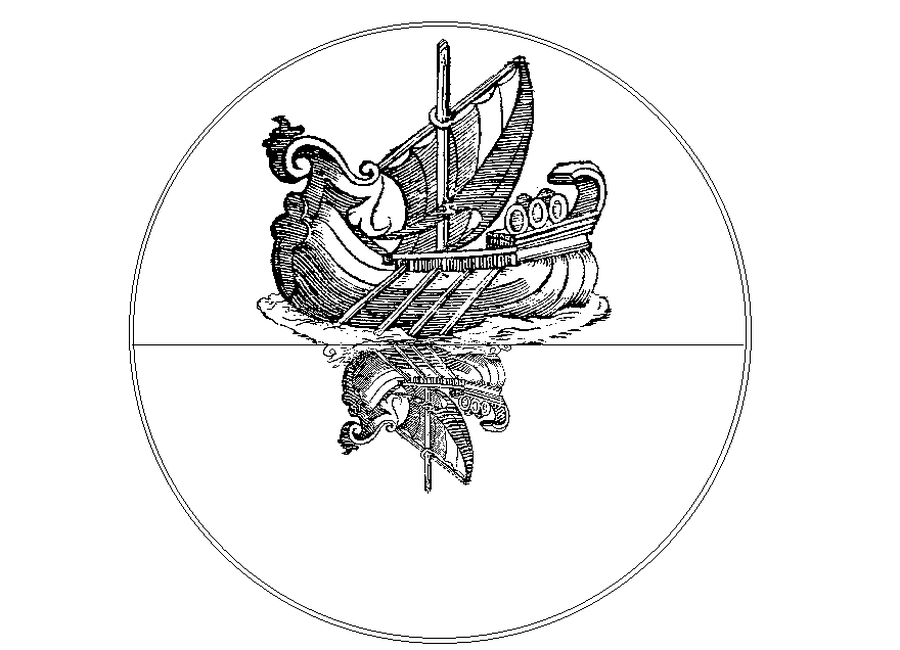
Разбор дальнейших сложностей может показаться избыточным для краткого ликбеза по тропам, но автор надеется, что этот небольшой объем представленной здесь информации даст читателю ключ к собственному пониманию такого явления как «художественный троп». Оно поможет не только лучше разбираться в строении художественных текстов и речей, но и выработать свое представление о логике смысла вообще.