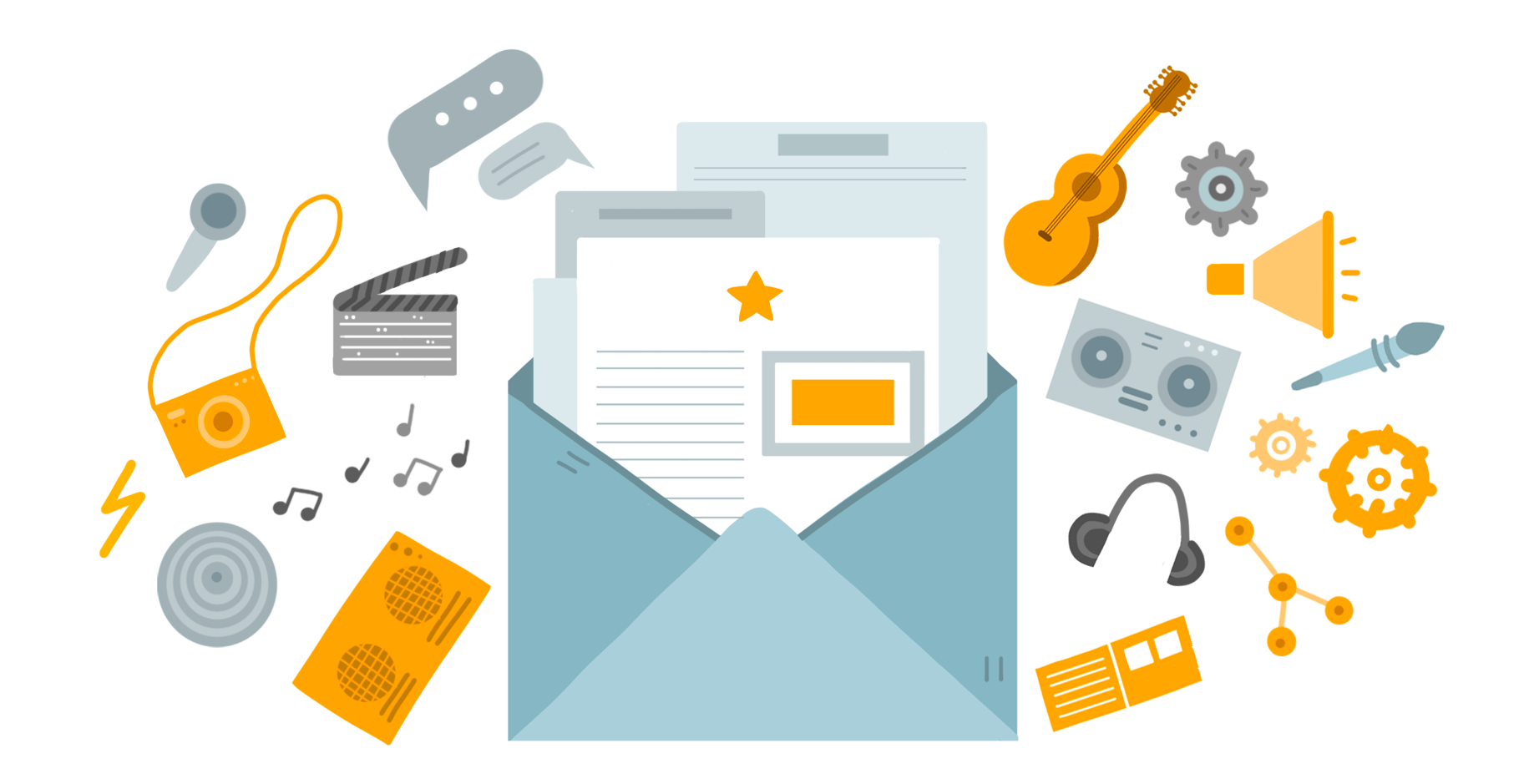Современное российское искусство почти не говорит о войне, и это неудивительно — за открытые и честные высказывания теперь можно получить срок. Но это далеко не единственная причина, почему художники предпочитают обходить прямой разговор о шокирующем настоящем. Война все сильнее вторгается в реальность, а ее опыт невозможно быстро принять и осмыслить.
Однако первые попытки отрефлексировать коллективную травму последних лет уже можно найти в литературе и кино — в неожиданных, повторяющихся метафорических фигурах. Корреспондентка самиздата Марта Гвай анализирует яркие литературные и кинематографические примеры — от нашумевшего серила «Фишер» до опубликованной в тамиздате повести Марии Степановой «Фокус» — и размышляет о том, как образ серийного маньяка, обитающего где-то среди нас, стал важным элементом осмысления новой реальности.
В небольшом, но насыщенном эссе — о том, как мы стали жить в родстве со зверем и впали в безутешную меланхолию, что общего между новой российской литературой и кино — и хитовым британским сериалом «Переходный возраст», и как художественный опыт помогает справиться со сломом внутренней картины мира.
Почему молчит искусство: три причины, почему невозможно говорить о войне
Война, начатая Россией в 2022 году, стала новой, шокирующе-неожиданной реальностью — и одновременно темой, почти невозможной для современного искусства. В стране-агрессоре её нельзя называть войной, нельзя говорить о её жертвах и военных преступлениях, нельзя писать о ней открыто вне воспевающего героев дискурса, где граница между Великой Отечественной и нынешней войной стёрта. В этом нарративе рассказ и о той, и о другой войне становится неживым и лживым. За любое прямое, честное или хотя бы сомневающееся высказывание в России можно получить срок, статус иноагента, запрет на преподавание, срыв выставок и презентаций. Разумеется, никто этого не хочет. При этом кажется, цензура — не единственная причина молчания.
Война изменила не только внешнюю реальность, но и внутреннюю картину мира: она разрушила привычное представление россиян о самих себе. Этот опыт невозможно быстро принять, осмыслить, тем более выразить. Особенно остро его переживает интеллигенция — те, кто привык задумываться о своей идентичности. Никто не учил нас быть представителями государства-агрессора. Резкий обвиняющий дискурс первых месяцев войны — «вы всегда так делаете» — с припоминанием Крыма, Грузии, Чечни, Афганистана, с уходом в колонизаторское прошлое — застал врасплох и оглушил. С прежним историческим опытом ещё как-то удавалось отстраниться: не чувствовать вины, не попадать под осуждение. В российском национальном мифе укоренён образ всесторонне страдающей жертвы: Россия страдает сильнее всех, даже если при этом мучает других. Новый опыт оказался иным: он не даёт ни оправдания, ни дистанции. И это — ещё одна причина, почему война пока не стала темой для глубокой рефлексии в искусстве.
Третьей причиной можно считать саму реальность: история войны не завершена. Жизни её участников, неучастников и свидетелей продолжаются. В рамках отдельной человеческой судьбы какие-то эпизоды уже завершены, но сама эта история — нет. Жизнь не закончила свой рассказ. Мы не знаем, чем всё закончится — и остаёмся в неопределённости. В таких условиях любое высказывание будет точечным, незавершённым.
Конечно, молчание это не абсолютное. Война проникает в искусство. Но чаще это поэзия, документальные и полудокументальные тексты, драма — но не роман, не большая форма, которая должна осмыслить случившееся всесторонне. На этом фоне всё заметнее тенденция говорить о случившемся метафорически. Такая осторожность иногда звучит сильнее, чем реализм. Кроме того, метафоры легче проходят цензуру: книги и фильмы с аллегорическим содержанием можно издавать в России — к ним труднее придраться.
Именно о таком метафорическом переосмыслении новой реальности пойдёт речь в этой статье.
Дети чудовищ: о маньяках и его близких в современной российской литературе
В 2024 году московское издательство «Альпина.Паблишер» выпустило два схожих романа — Анастасии Максимовой «Дети в гараже моего папы» и Аси Демишкевич «Под рекой». В обоих книгах ребёнок — у Максимовой это сын, у Демишкевич — дочь — обнаруживает, что отец был серийным маньяком, и пытаются научиться жить с этим знанием. Действие в обоих случаях происходит в провинциальном русском городе, из которого героям удаётся выбраться. Схожи семейные конструкции: герои не единственные дети, у них есть старшие сёстры, а их матери — забитые, не способные на осмысленные действия женщины, до конца отрицающие вину своих мужей. Романы примерно одного объёма, и в каждом просматриваются прозрачные, но убедительные связи с сегодняшней Россией, пережившей военный перелом. Герой Максимовой, Егор, эмигрирует в Армению после начала войны. Главная героиня Демишкевич, Кира, в январе 2022 года собирается заявить в милицию на своего умершего отца.
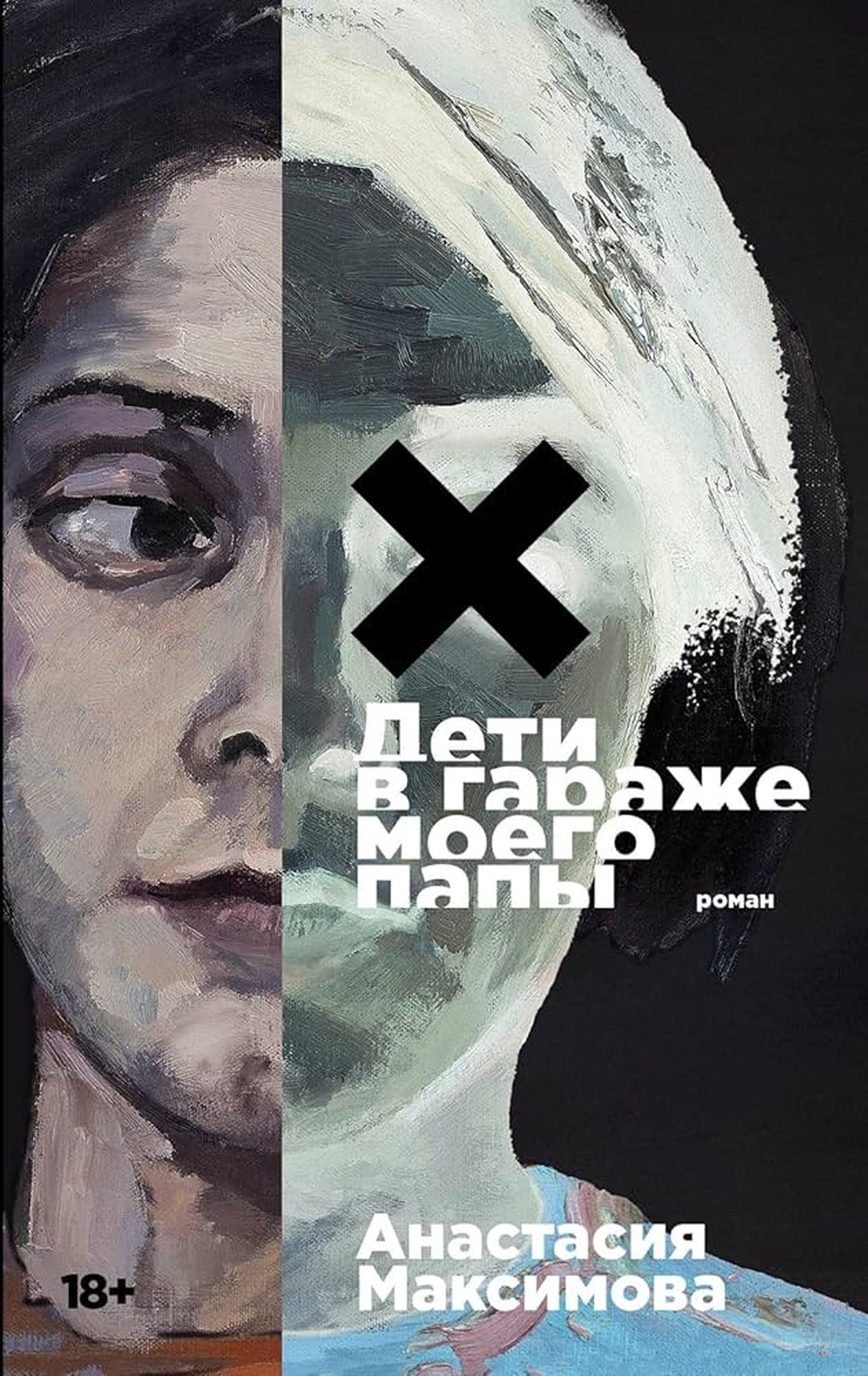
Однако главное сходство этих книг — не в сюжетных совпадениях, а в общем переживании: каково это — оказаться в родстве с чудовищем, способным на насилие и убийство. Отец Егора насилует и убивает детей, тех, с кем его сын, например, занимается в секции по плаванию. Отец Киры — тоже убийца, его жертвы — женщины, иногда совсем юные, как, например, Маша, Кирина подруга и одноклассница. Он также нападает на собственную дочь, Яну, которая узнает его и понимает, что страшный маньяк, которым пугают всех жительниц их города — ее отец, но никому об этом не рассказывает. Отца Егора осуждают, но, несмотря на очевидные доказательства — в гараже на даче находят тела убитых детей, — его мать не верит в то, что он преступник, считает, что мужа подставили. Таким образом, и Кира, и Егор сталкиваются не только с ужасом от того, что оказались в родстве со зверем, но и с разрушительным, чудовищным молчанием в собственной семье, когда на любой неприглядный факт мать отмахнется и скажет: «Не выдумывай», несмотря на очевидные доказательства.
Узнав правду, и Кира, и Егор испытывают сильнейший удар, их идентичность рушится, и они пытаются ее восстановить. Егору всего шестнадцать, он учится в школе и встречается с девушкой Элей. Мама Эли дает ему ссылки на сообщества, где общаются жертвы педофилов, что Егора удивляет: он не считает себя жертвой. Отношения с Элей разваливаются: ей кажется, что Егор на стороне отца (собственно, так и есть, частично — во всяком случае, чувства Егора двоятся: то ужас, то любовь, все резко черно-белое), а для девушки это неприемлемо. Кира уже давно не общалась с отцом, она помнит случаи из детства, когда отец показывал свое истинное нутро — например, был жесток к животным, а в один момент чуть не утопил их с сестрой. Больший шок она испытывает, сталкиваясь с тем, что семья ее не поддерживает в желании заявить на отца в полицию. Она, как и Егор, не понимает, как жить дальше: как можно любить мать, которая сама любить не умеет и к любви не готова. Кира идет на аукцион, посвященный ее школьной подруге Маше (тоже жертве отца, и у Киры есть доказательства), и покупает ее картину с названием «Под рекой».
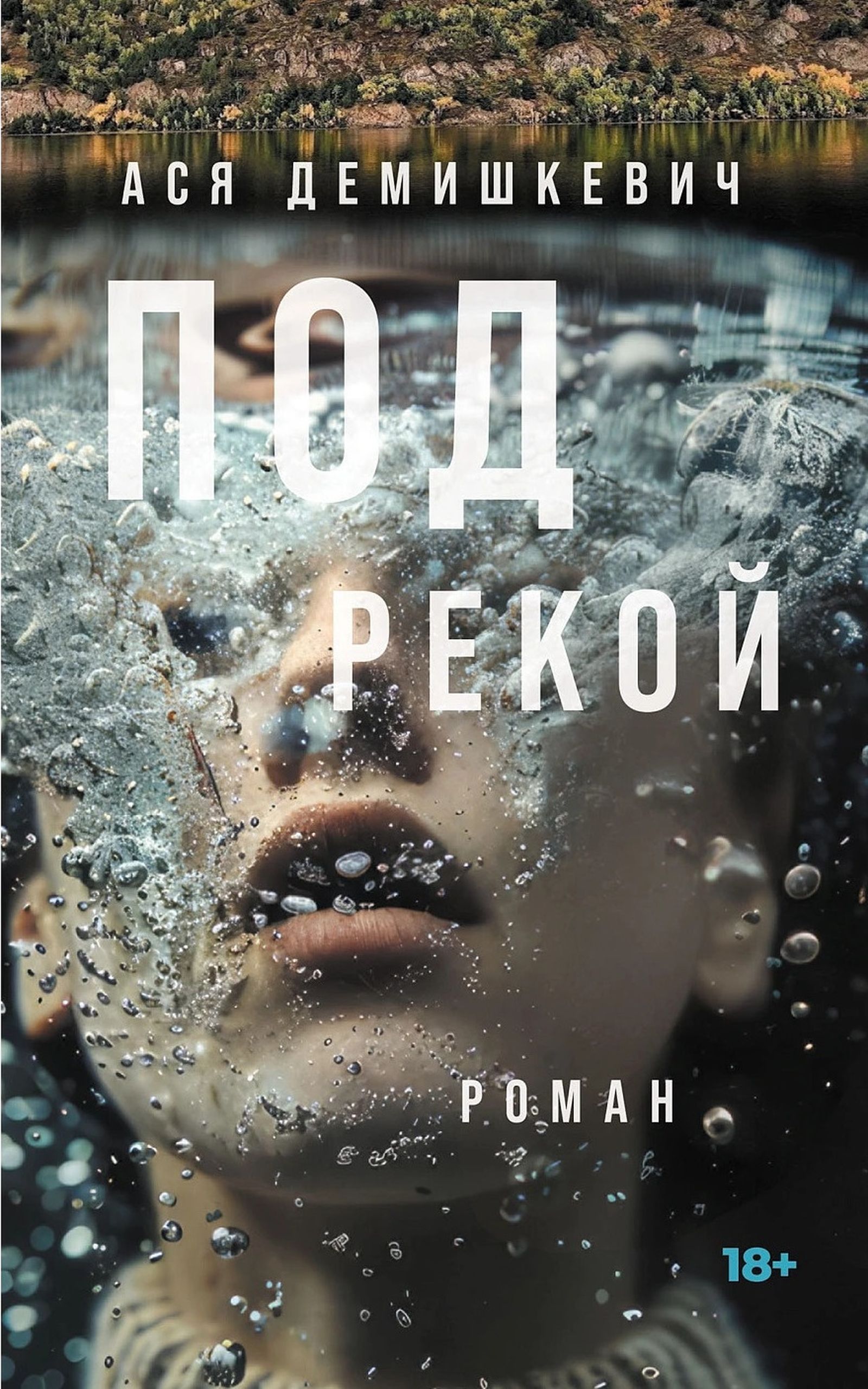
Образ города под рекой — мощная, связующая все сюжетные линии метафора в романе. Когда-то давно село, откуда была родом бабушка Кира, было затоплено ради построения гидроэлектростанции — преобразования страны по воле государства. Отец Киры — незаконнорожденный ребенок военного времени, воспитывающийся по этой причине не матерью, а бабушкой. Мать же его переезжать из села не захотела и покончила с собой — повесилась, что и обнаружил ее сын, будущий серийный убийца. При этом он лояльный гражданин и уважает власть: Кира разбирает его вещи и находит бюсты Сталина, Ленина и календарь с Путиным — все это несмотря на то, что эта власть сделала с его семьей и с ним самим. Травмы лишили его человеческого облика. Но, что еще важнее, последствия насилия над собственными землей, жизнью, людьми накрывает не только самого маньяка и его жертв, оно накрывает всех — все оказываются «под рекой», и Кире в момент осознания роли отца кажется, что под воду уходит и город, и кофейня, и набережная — и как бы вся жизнь, которую пронизывает изначальное, глубинное насилие и несправедливость. Все в каком-то смысле становятся жертвами маньяка, как и Егор — жертва собственного еще любимого отца.
И оба: и Кира, и Егор находят какой-то путь преодолеть то, что случилось. Это неясная и зыбкая тропинка, но она есть. Через десять лет Егор приезжает в родной город и встречает свою бывшую девушку Элю, в разговоре с которой понимает, что только полный разрыв с отцом дает ему право на дальнейшую относительно нормальную жизнь. Он принимает важное решение, пусть гипотетическое: если отец сбежит из тюрьмы, он его остановит. Это символическое решение вдруг освобождает его: до этого он никогда не оставался с детьми наедине и не прикасался к ним. После Эля просит поправить носочек на ножке ее ребенка, и он поправляет. Кира принимает решение заявить в полицию, помогает матери и семье с переездом (понятно, что им придется уехать из города), на прощание говорит матери: «Я тебя люблю» — говорит неумело, ничего при этом не чувствуя, но делая какую-то попытку обратить вспять реку насилия и боли, которая затопила всю страну.
В обеих историях есть еще один важный мотив, опыт коллективной вины: родственники, особенно дети, не сделали ничего плохого, но их ненавидят. Егору приходится уйти из школы: родители не хотят, чтобы их дети учились в одном классе с сыном педофила. Они с матерью вынуждены уехать, Егор меняет фамилию — прежняя становится клеймом. Мать и сестра Киры тоже готовятся к переезду — они понимают, что после обнародования правды об отце оставаться в одном городе с родственниками жертв будет небезопасно. Они оказываются вторичными жертвами деяний отца и мужа, но у тех, кто их гонит и мучает тоже есть своя ответственность, о которой никто не вспоминает. Гнев на родственников маньяка сродни стихийному бедствию, бессознательному, не поддающемуся ограничениям, правилам и законам. Маньяк словно срывает стоп-кран, делает ужасные вещи и порождает в ответ ненависть необыкновенной силы и качества, словно цунами, которая может снести все вокруг, утопить весь мир, погубить человечество. Эта ярость разрушает сродни энергии ядерной бомбы, открывая пугающую правду: если один способен изнасиловать и убить ребенка — мы все на это способны, и понимать это про себя так же невыносимо, как и столкнуться с насилием и убийством.
Родство со зверем: «Фокус» Марии Степановой и травма языка
В 2024 году в «Новом издательстве» выходит повесть Марии Степановой «Фокус» — история писательницы М., застрявшей между границами двух стран. Ее бесцельное блуждание по незнакомому городу, преследование попутчика по вагону, случайный квест, где надо выбираться из комнаты-ловушки, и, неожиданно — финальный фокус на арене цирка, когда ее разрезают пополам на глазах у публики — тоже символическое изображение маеты, невозможности жить прежней благопристойной жизнью, отчаянное желание бегства на фоне войны, которая идет уже год (действие происходит в 2023 году).
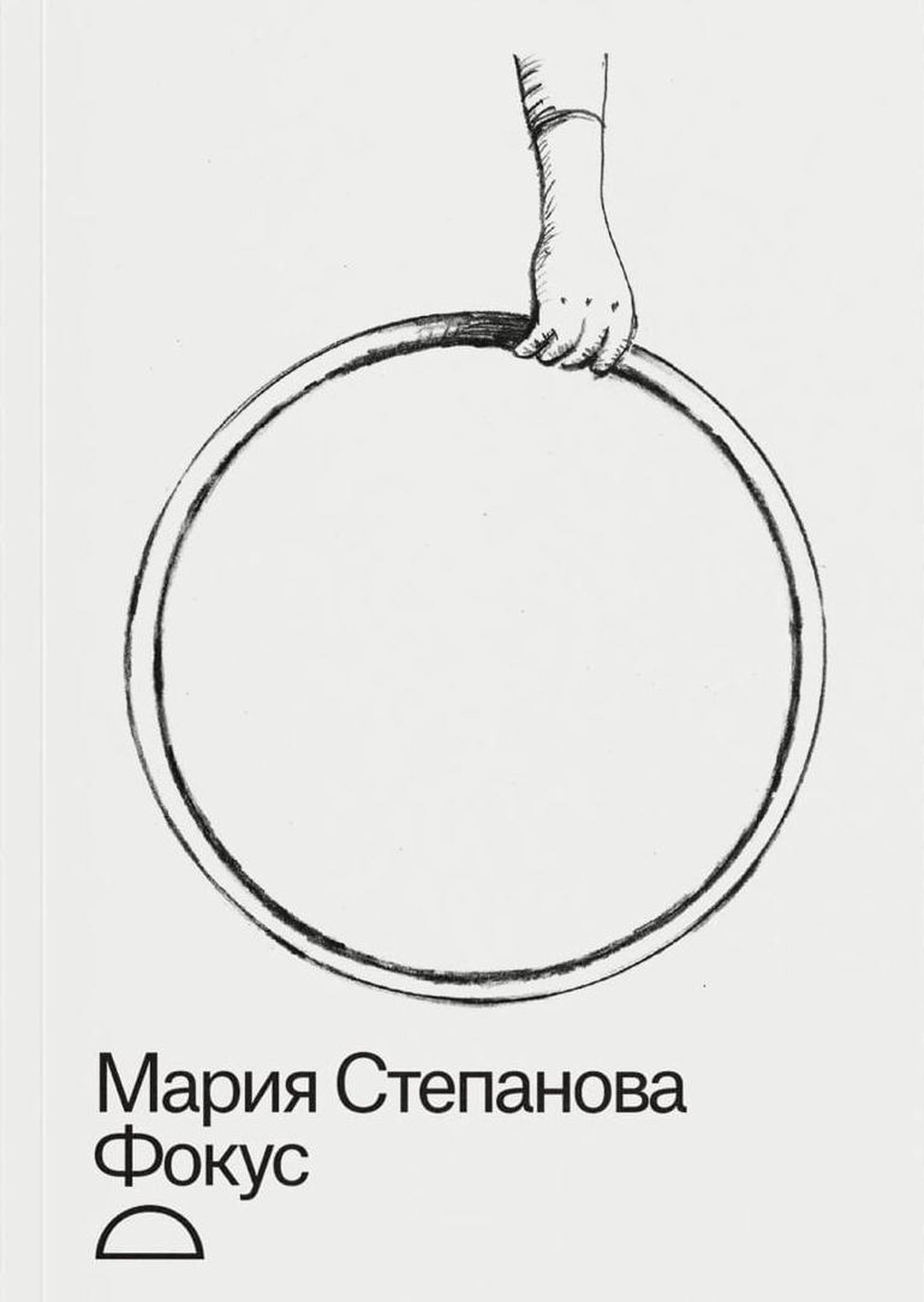
В начале повести сталкивается с жестоким убийством лебедей в парке: их загрызает лиса. Зверство природы становится для М. откровением: хищники не нуждаются в оправданиях. Местная активистка, пытающаяся спасти птиц, не может убедить героиню в возможности приручить зверя. Вместо этого М. осознает свое родство с ним, он становится неотъемлемой частью жизни, манифестирует и в начавшейся войне. «Чужеземный город, где жила теперь М., был полон людьми, бежавшими из обеих воюющих стран, — и те, на кого напали ее соотечественники, смотрели на бывших соседей с ужасом и подозрением, словно прежняя, довоенная жизнь, какой бы она ни была, перестала хоть что-нибудь значить и только маскировала твое родство со зверем, продолжающим жрать».
Главная героиня испытывает сложности с использованием родного языка, его отторжение описано как физическая мука: слова обрастают «гноящимися наростами», превращаясь в «располоз» и «мочканули». Когда М. пытается говорить, она чувствует «полуживую мышь во рту» — образ невозможности ни избавиться от своей природы, ни принять ее. Ее меланхолия — это кризис идентичности: как продолжать «нормальную жизнь» с автографами и встречами, если ты сам — неприрученный зверь, держащий в зубах жертву?
Вывихнутый мир: маньяки в современном российском кинематографе
Поговорим теперь о кино, где тема серийных маньяков тоже нашла отражение. Ещё до войны вышел сериал «Чикатило» (режиссер Сарик Андреасян) с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Несмотря на мрачный сюжет, сериал ностальгически детализирует советский быт. История ростовского маньяка здесь — скорее повод для создания ретро-триллера, чем глубокое исследование. Следом за «Чикатило» выходит «Фишер», режиссеры — супружеская пара Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Если Андреасян — мастер коммерческого кино (он снял римейк «Служебного романа» в 2010 году, американский боевик и тоже римейк «Ограбление по-американски» в 2014-м, после чего много работал в комедийно-развлекательных жанрах, а также продюсировал), то дуэт Тарамаева и Львовой работают в иной парадигме. Оба они — актеры, выходцы из театра Фоменко, что обуславливает их интерес к вдумчивому, интеллектуальному кинематографу. В 2001 году Тарамаев и Львова ушли из театра, сосредоточившись на кино. Их фильмография невелика, но весома: дебютный «Зимний путь» (2012, премия «Окно в Европу») — камерная история о музыканте (прототип — Эрик Курмангалиев) и бездомном гопнике; сериал «Черная весна» (2022) — о подростках, решающие вопросы чести с помощью дуэльных пистолетов; наконец, «Фишер» (2023), принёсший им широкое признание.

Сериал состоит из двух частей: условно говоря, советской (1986 год) и постсоветской (1991). Советское время узнаваемо не только по бытовому антуражу, но и по типажам: тут и тихо спивающийся журналист, вернувшийся из командировки в капстрану, и его нарядная жена, брезгливо презирающая советскую жизнь и мечтающая о новой поездке заграницу, и эзотерический кружок, увлеченный столоверчением (использующий, как позже выяснится, череп жертвы маньяка). В сериале есть фотографы, спекулирующие порнографией, ветеран афганской войны с замученной депрессивной женой, гомосексуал, выгнанный из института и проклятый своими родителями… В общем, точный и полный набор советских типажей. В первой части авторы держат интригу, не раскрывая, кто такой Фишер. Он неприметно присутствует в кадре — это конюх, на конюшне которого катаются дети (блестящая игра Андрея Максимова). Оперативная группа (московский следователь Валерий Козырев, актер — Александр Яценко, прибывший на подмогу ростовский следователь Виктор Боков — Иван Янковский, и следовательница Наталья Добровольская, роль которой исполнила Александра Бортич) пытается расследовать преступления, каждое из которых страшнее и жутче предыдущего. При этом у Козырева сложные отношения с женой и сыном-подростком, жена Бокова тяжело больна, Добровольская — одинокая мать чернокожей девочки, последствия Олимпиады-80. На фоне личных драм следователи находят изуродованные трупы детей, а маньяк начинает играть с ними в изощренную игру, оставляя зашифрованные послания и принимая псевдоним Фишер — имя, «подсказанное» сыном того самого журналиста. Кульминация первой части — трагичная ошибка следствия: под давлением обстоятельств оперативники объявляют маньяком невиновного и празднуют закрытие дела (обвиняемый умер, суда не будет, шитый белыми нитками подлог никто не обнаружит) в ресторане под «Ягоду-Малину» в исполнении Валентины Легкоступовой. Здесь присутствует небольшой анахронизм, так как песня эта впервые была исполнена 1 января 1987 года, а действие фильма относится к лету 1986-го.
Заставка сериала использует искаженную до какофонии песню «Крылатые качели», (музыка Евгения Крылатова, слова Юрия Энтина) известной по саундтреку к советскому детскому фильму «Приключения Электроника». Это одна из самых оптимистичных советских детских песен, обещающая детям «только небо, только ветер, только радость впереди» и жизнь, подобную беззаботному, свободному полету качелей. Титры же сопровождает другая картинка: качели ржавые, скрипят и дребезжат, мелодия словно вывернута наизнанку, как и весь светлый, советский мир — вывихнут, если детей в этом мире можно изнасиловать, убить, изуродовать. После фиктивно закрытого дела с героями оперативной группы происходят неприятные вещи, и об этом мы узнаем в начале седьмой серии, когда действие переносится в 1991 год, и в первых после заставки кадрах некто налетает и хватает заплутавшего в лесу кудрявого мальчика.

Реальность изменилась: новая жизнь предлагает детям не пионерские лагеря, а игровые автоматы. Московский следователь Козырев расследует самоубийства партийных функционеров — после августовского путча они участились в ожидании так и не случившегося тогда суда над КПСС. Боков, узнав о пропавшем ребенке, приезжает в Москву и уговаривает Козырева заняться поисками. Жена Бокова умерла, а Добровольская уже давно не работает в милиции по причине алкоголизма. Все герои понимают, что пять лет назад они пошли на сделку с совестью — настоящий преступник так и не был пойман. В последних двух сериях режиссеры позволяют себе несколько совершенно инфернальных сцен, когда маньяк мучает детей в подвале. Он заключает в подвал и Добровольскую, которую потом спасают Боков и Козырев, — ее и еще только одного, выжившего ребенка, седого после пережитого ужаса.
Когда убийца, наконец, пойман и последний оставшийся в живых ребенок спасен, Козырев предлагает Бокову убить маньяка, ведь новая власть хочет ввести мораторий на смертную казнь, но Боков отказывается. У гаража, где Фишер мучал детей, появляется толпа, готовая разорвать убийцу, но следователи уводят и спасают его — для правосудия. К гаражу приходит и мать Фишера и плачет: «у нее там сын». Толпа понимает, кто она, и набрасывается. Боков отходит и закуривает. Сюжетная линия завершена, но ужас случившегося совершенно не оставляет никакого просвета. У каждого героя жизнь разрушена, мучения детей не могут быть искуплены никаким наказанием преступника, и что с этим делать, непонятно.
Вместо послесловия: меланхолия об утерянном «Я»
Почти сто лет назад, в начале первой мировой войны основатель психоанализа Зигмунд Фрейд пишет два эссе «Скорбь и меланхолия» (в некоторых переводах вместо скорби используется печаль или грусть опубликовано в 1917 году) и «О преходящем» (1915 год). В первом эссе Фрейд анализирует, чем скорбь отличается от меланхолии, и определяет первое — как нормальную психическую реакцию на потерю или гибель любимого объекта, а второе — как состояние не вполне нормальное. При грусти человек может утешиться, принять, что любимого объекта уже нет в мире, и смириться с изменившимся миром. Человек, который страдает от меланхолии, связывают с утерянным объектом некую абсолютную любовь, на которую он способен, и утешиться не может, так как страдает его идентичность. Происходит то, что Фрейд называет «обеднением Я». Вот как он пишет об этом: «При скорби мир становится бедным и пустым, при меланхолии же таким становится само „Я“. Больной изображает свое „Я“ мерзким, ни на что не способным, аморальным, он упрекает, ругает себя и ожидает изгнания и наказания». Меланхолия, таким образом, становится печалью об утерянном «Я» и том мире, в котором это «Я» было другим, как бы до грехопадения, райским. Фрейд, будучи атеистом, не приветствует такие состояния, поэтому в эссе он также рассуждает о нереальной связи между меланхоликом и утерянным объектом его любви, так как в конце концов он, как получается, нарциссично любит только себя и не уважает реальность.
Во втором эссе, совсем коротком, описывается прогулка автора с молчаливым другом и одним известным поэтом (он не назван в эссе, но есть мнение, что имеется в виду Райнер Мария Рильке) и автором, то есть Фрейдом. Поэт скорбит о бренности всего прекрасного, что они наблюдают, но Фрейд пишет: «Я возразил пессимистически настроенному поэту, что бренность прекрасного не несет с собой его обесценения». В каком-то смысле поэт тут меланхолик, а Фрейд — скорбящий. Он пишет, что разговор происходит за год до войны, которая разрушила слишком многое, в том числе и «надежды на то, что мы, наконец, преодолеем различия между народами и расами». При этом Фрейд все равно делает ставку на скорбь, в природе которой изживать саму себя, высвобождать либидо, то есть делать человека снова способным к любви и радости. А все, что было написано выше, относится к болезненному переживания «обеднения я», которое не имеет уважения к реальности.

Но так или иначе, родство со зверем, которое вряд ли всерьез расстраивало Фрейда, сейчас людей пугает и ужасает, и это происходит не только в контексте российской агрессии. В начале 2025 года на Нетфликсе вышел и мгновенно прославился сериал «Adolescence» («Подростковый возраст»). Четыре серии, каждая из которых снята единым кадром, рассказывают о подростке, убившем свою одноклассницу. Сначала это кажется невозможным бредом, но уже к концу первой серии зрители понимают, что мальчик действительно виноват. Дальше перед нами разворачивается серия о школе, в которой учился мальчик, его разговор с психологом, и последняя серия — жизнь его семьи, родителей и старшей сестры после его преступления. Они так же ненавидимы обществом, как и герои Аси Демишкевич (в сериале слово «педофил» появляется на машине отца, в романе «Под рекой» неизвестные вымазывают дверь Егора и его семьи дерьмом). Они раздумывают об отъезде, но потом все-таки решают остаться в своем городе. Последняя серия — день рождения отца, который он пытается прожить как прежде, что, конечно, невозможно, жизнь слишком изменилась. Отец семейства (глубочайшая игра Стивена Грэма) мучится, что совершил ошибку, что сделал что-то не так, ведь воспитание — на его совести. Они разговаривают с женой и приходят к тому, что — увы! — такое случается, они не могли предотвратить тот ужас, который совершил их сын, кажется, они находят силы жить дальше. Последние кадры показывают плачущего отца, невозможно, совершенно безутешного — по-фрейдовски меланхоличного.
Обнаруженное родство со зверем пережить только так — как нескончаемую грусть по бывшей жизни и бывшему себе. Так же меланхоличны и герои сериала «Фишер», и писательница М., в одиночестве оплакивающая цирк, который уезжает раньше времени, не дождавшись ее. А вот герои Максимовой и Демишкевич, кажется, нащупывают выход в скорбь: не отдаются ужасу до конца и делают робкие шаги. Получится ли это у них — и у нас у всех — покажет время.