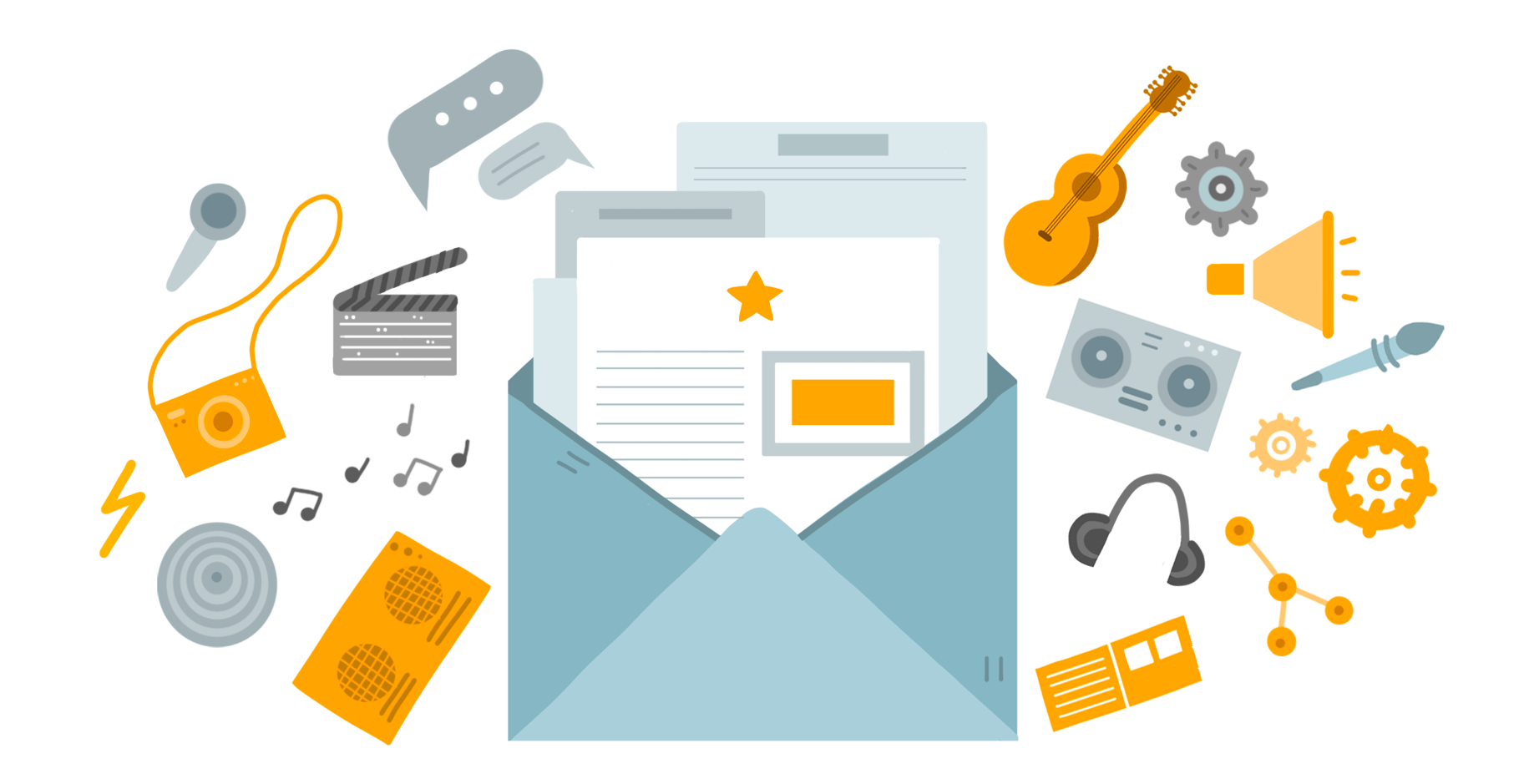Что происходит, когда тело превращается в способ художественного и политического высказывания? От радикальных перформансов Марины Абрамович до акций Йоко Оно, обнажающих человеческую уязвимость, — искусство второй половины XX века превратило телесность в один из главных инструментов сопротивления и художественных открытий.
Сегодня в этой традиции появляются новые голоса — те, кто говорит из позиции инаковости и маргинальности. Философ, писатель и художник Эмануэль Франц возвращает телу статус языка протеста и поиска, превращая собственные радикальные поступки в символические акты против отчуждения и равнодушия общества.
О радикальном и провокационном деятеле и его работах специально для Дискурса рассказал итальянский художник и писатель Энцо Комин, а Алина Поломских подготовила перевод материала, раскрывающий философский подтекст самых дерзких акций — от попытки заживо себя замуровать до жизни в мусорном баке и паломничества до монастыря Святой Екатерины босиком по Синайской пустыне.
Анджела Веттезе, известный международный искусствовед и историк, в своей книге 2024 года «Larivoltadelcorpo. Gli artisti che lo hanno usato, spinto al limite, liberato» — «Бунт тела. Художники, которые использовали его, довели до предела, дали ему свободу» (перевод автора) — представила углубленный анализ тела как выразительного инструмента и средства передачи политических посылов в современном искусстве. В основе ее анализа лежит концепция тела как языка, средства исследования, оспаривания и переворота социальных, культурных и художественных условностей.
С 1960-х годов использование тела в художественной практике приобрело ярко выраженную оппозиционную и освободительную ценность. Такие художники, как Марина Абрамович, Джина Пан, Крис Бурден и Вито Аккончи, превратили свою телесность в место конфликта и откровения, используя зачастую экстремальные перформансы для исследования таких важных тем, как боль, идентичность, уязвимость и сопротивление.
В этих практиках тело становится средством радикальной коммуникации, способным противостоять предрассудкам и переосмыслить отношения между искусством и реальностью.
Среди известных примеров — «Ритм 0» Абрамович, в котором она подчинила себя воле публики, используя 72 предмета, от безобидных до опасных; или перформансы Джины Пан, в которых она наносила себе физические увечья, чтобы осудить страдания женщин и структуры, которые их навязывают. В фильме «Отрежь кусок» Йоко Оно предложила зрителям срезать части ее одежды, обнажая динамику насилия и объективацию. Эти действия, хотя и отличались по контексту, подчеркивали центральную роль тела в выражении социальной критики и личной уязвимости.
Одним из наиболее значимых аспектов перформанса как художественной практики является идея открытости и риска. Использование собственного тела в качестве главного героя художественного действа предполагает разрушение барьеров между произведением искусства и автором, между художественным представлением и реальной жизнью. Физическое самопожертвование и исключительная близость к зрителю становятся средствами эмоционального вовлечения, превращая искусство в процесс совместного творчества. Размышления Веттезе еще острее ставят глубокие вопросы о границах между подлинным выражением и зрелищем, между творческой искренностью и провокацией. В этом смысле искусство перформанса представляет собой пространство напряженности, в котором тело озвучивает универсальные проблемы, такие как борьба за гражданские права, социальная критика и стремление как к индивидуальной, так и к коллективной свободе.
Тем не менее, в современном перформативном искусстве необходимость обличать недостатки и защищать нарушенные права уменьшилась благодаря социальному прогрессу, достигнутому за последние десятилетия. Это изменение привело к сокращению числа наиболее ярких действий, но не уменьшило выразительный потенциал средства. Напротив, появляются новые голоса тех, кто все еще чувствует себя маргинализированным и неуслышанным. Ярким примером является нейроотличное сообщество, которое часто упускается из виду, особенно в небольших или более изолированных местах. У этих людей, все больше осознающих свои различия и то, как они взаимодействуют с другими, может возникнуть новая интерпретация тела в искусстве, способная вызвать реакцию, повысить осведомленность и побудить новую социальную рефлексию.

В этом контексте фигура Эмануэля Франца возникает неожиданно и революционно. Философ, писатель и издатель из итальянского региона Фриули,
Франц не называет себя художником или создателем перформансов в общепринятом смысле этого слова, а скорее принадлежит к миру аутсайдеров — разнородной плеяде личностей, которые, не имея какой-либо официальной принадлежности, совершают радикальные поступки, находящиеся на грани между воплощенной философией и социальной провокацией.
Его действия, часто наполненные двусмысленностью, не поддаются простой классификации, но, наряду с экстремальными выступлениями, отражают представление о теле как о переломном месте.
Среди его представлений его недавнее решение символически выставить себя у позорного столба на людной улице приобретает как знаковое, так и противоречивое значение. Франц стоял неподвижно, голова и руки были зажаты в деревянной раме, в нарочито средневековой позе унижения. Однако, добровольно заняв эту позу, он изменил ее значение: вместо того, чтобы быть осужденным, он сам предложил себя на суд общественности, став одиноким голосом, противостоящим безразличию и молчанию. Это действие заставило прохожих почувствовать уязвимость человека, который демонстрирует свою непохожесть на других, не становясь жертвой.
Представления тесно связано с его последней книгой «L’io autistico» (которую можно перевести как «Аутичное я»), в которой Франц исследует границы нейроотличной идентичности — не в клинических терминах, а как возможность автономного существования, отличающегося от доминирующего образа мышления. Написанная вскоре после того, как он обнаружил у себя аутизм, работа предлагает уникальный взгляд на этот жизненный опыт и делает вклад как в общественное понимании, так и в медицинский дискурс. Таким образом, акция становится личным заявлением и публичной манифестацией протеста против несправедливости, с которой сталкиваются те, кто отличается от других. Его выставленное напоказ и высмеиваемое тело становится зеркалом одиночества, испытываемого теми, кто живет на задворках обычного общения, а также утверждением радикальной мысли, не боящейся непонимания.

Провокационные действия Франца многочисленны, и они часто носят экстремальный характер. Например, в мае 2023 года он заживо замуровал себя в маленькой камере площадью три квадратных метра. В течение семи дней он оставался внутри без связи, без электронных устройств и с минимальным количеством продуктов питания. В камере была небольшая щель для доступа воздуха и света. Он задумал это помещение как монашеское убежище от отвлекающих факторов и излишеств современной жизни. Через семь дней из-за проблем со здоровьем потребовалась медицинская помощь. Этот акт подчеркивает психологическую изоляцию и духовное сопротивление.
В другой раз он некоторое время прожил в мусорном баке, одетый только в мешковину, и не разговаривал. Его присутствие на городском тротуаре вызывало в памяти образы бедности и заброшенности. Посетители опускались на колени возле мусорного бака, чтобы поговорить с ним или просто понаблюдать. Этот поступок был не пародией на бездомность, а символическим избавлением от потребления и тщеславия, побуждающим задуматься о том, что общество предпочитает выбрасывать. Несмотря на эксцентричность, этот поступок был воспринят как аскетичный и искренний, привлекая посетителей, которые даже искали его благословения.

Франц также отправился в одиночное путешествие по Синайской пустыне, достигнув монастыря Святой Екатерины после долгого пути босиком и поста. Паломничество проходило без спонсоров, камер и рекламы. Оно символизировало как примирение между христианскими конфессиями, так и личный поиск единства через страдания и молчание. Это попытка осмыслить воссоединение православной и католической Церквей и способствовать разрешению религиозных конфликтов. В своих более поздних размышлениях он говорит об этом путешествии как о пересечении географии и идентичности.
В ходе другой символической акции он добровольно завязал глаза на неделю. Он передвигался по городам с помощью деревянной палки и надписей, объясняющих его состояние.
Целью акции была критика общества, насыщенного образами, но все более слепого к сопереживанию. Этот одновременно провокационный и поэтичный жест продемонстрировал, что отсутствие зрения может привести к более глубокому контакту.
Наконец, есть акция, в которой он приковал себя к 17-килограммовому камню и таскал его с собой в течение нескольких дней по городу и на природе. Камень был вырезан вручную и символичен по форме, напоминая одновременно реликвию и бремя. Франц описал этот поступок как попытку показать психологический груз, который люди молча переносят: горе, ожидание, маргинализацию. Прохожие предлагали помощь, задавали вопросы или проявляли безразличие — каждая реакция становилась частью самой работы. Действие завершилось тем, что он снял с себя кандалы у горного ручья, символизирующего освобождение.
Его работа продолжает расширяться благодаря публичным диалогам, подпольным публикациям и открытым лекциям на стыке мистицизма, маргинальности и телесной философии. Отличительной чертой подхода Франца является не только радикализм его действий, но и их метафизический и экзистенциальный резонанс. Каждая акция служит живым подтверждением, размышлением о современном отчуждении, социальных конструкциях и искупительной силе добровольного страдания. Его философия неотделима от его тела, которое он последовательно представляет как символическое поле битвы между личностью и обществом.
Франц не стремится к одобрению или вовлечению, а скорее стремится к диссонансу. Его творчество — это искусство без искусства, жест без сценичности, обращенный скорее к совести, чем к эстетической чувствительности. И, возможно, именно по этой причине его провокации по-своему потрясают… больше из-за того, что они пробуждают, чем из-за того, о чем они заявляют.
В заключение, независимо от того, рассматривается ли тело через призму истории коллективного перформативного искусства или как единичный случай воплощенной мысли аутсайдера, оно остается центральным носителем смысла. Благодаря Эмануэлю Францу мы видим, как даже сегодня тело может быть востребовано, политизировано и выведено за рамки, подтверждая его роль как инструмента откровения и сопротивления. Его радикальные поступки побуждают нас пересмотреть не только то, как мы видим других, но и то, как воспринимаем себя.
Переводчик: Алина Поломских