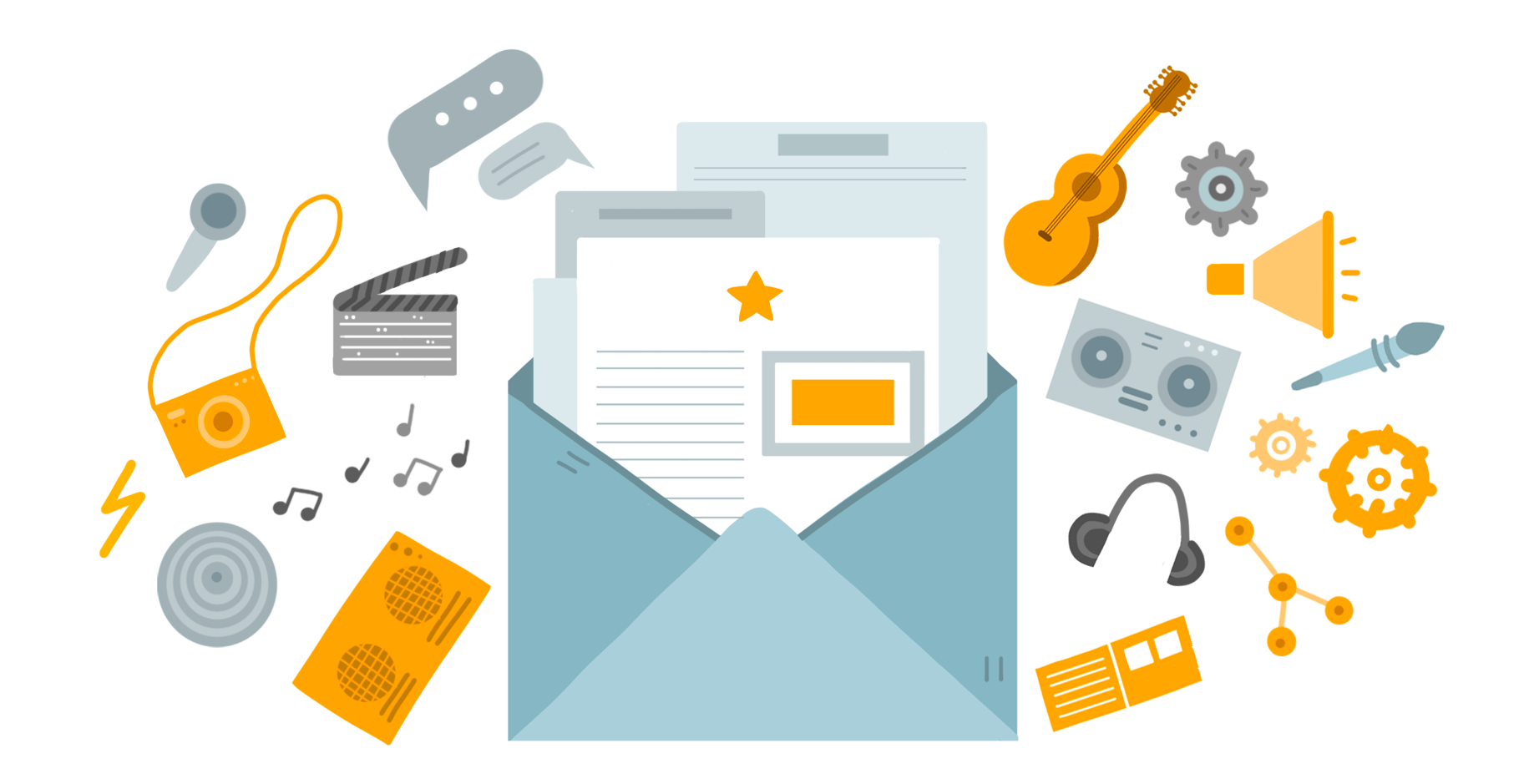Пока физики продолжают удивлять нас теориями о том, что времени нет, чуткие художники впитывают эту витающую в воздухе идею, по-своему осознают ее и в своем ключе развивают. Международный театральный фестиваль «NET» («Новый европейский театр») не стремится свести показ заметных новейших спектаклей и перформансов европейского театра к одной тенденции, объединить под одной темой. Но часто так случается, что художественная парадигма проявляется сама собой. Как минимум в четырех спектаклях-перформансах осмысляется время: от идеи о том, что ему противостоит более мощная сила – память – до сомнения в его существовании.
Наизусть

Художественный руководитель Национального театра королевы Марии II в Лиссабоне, актер, драматург и режиссер Тьяго Родригес показал спектакль «By heart/ Наизусть», участники которого: сам режиссер, 10 добровольцев и оставшиеся в зале менее смелые зрители. Обаятельный, живой, с прекрасным чувством юмора, Родригес на английском читает нам что-то вроде непринужденной лекции (русские титры – на экране) о значении памяти, приводит исторические и личные примеры. А в перерывах дирижирует добровольцами, задача которых за время спектакля выучить на русском языке сонет Шекспира, повторяя строчки бесчисленное количество раз.
Ожидаемо в разговоре возникают и роман Р. Бредбери «451 по Фаренгейту», и история О. Мандельштама, стихотворения которого выучивали по десять человек, рассказывали следующим десяти и т.д., чтобы, не записывая, сохранить их в памяти культуры. Родригес вспоминает, что был библиотекарь в Освенциме, который знал наизусть, например, Пятикнижие Моисея и говорил заключенным: «Читайте меня». И ведь если мы задумаемся, то поймем, что человек – единственный носитель информации (природный!), который претерпев качественные изменения от того, что эта информация в нем, и от самого процесса ее запечатления…
«Наизусть» рифмуется с двумя работами второго крупнейшего фестиваля современного искусства этой осени – «Территория» – о нем мы писали ранее. Это иммерсивный спектакль-бродилка немецкой компании «Римини Протокол» «Наследие. Комнаты без людей» и театрализованная выставка Р. Лепажа «Ночь в библиотеке». Одна из несложных мыслей, которую проводят авторы первого проекта – это идея о том, что человек жив, пока он существует в памяти людей, которые листают его фотографии, смотрят видео с ним, держат связанный им свитер... Второй проект – это экскурсия с использованием шлема виртуальной реальности по легендарным библиотекам мира: реальным, существовавшим когда-то или выдуманным. Мы узнаем о сожженной Александрийской библиотеке, о подвергнутой обстрелу и горевшей библиотеке в Сараево; любопытна история «мертвой» библиотеки в Копенгагене: это собрание не каталогизированых книг, которые никто не читает.
Родригес очень просто объясняет нам, что сохранение печатной книги – это сохранение памяти: от материального накопления корешков и страниц (библиотека в Копенгагене могла бы стать еще одним его примером) до почти дневниковой ценности книги, в которой читатель давным-давно что-то подчеркивал и комментировал или оставил вложенное объявление о показе фильма Ф. Трюффо, как это сделала бабушка режиссера.
Память как возможность сохранить разум. Память как способ коммуникации с давно ушедшими... И конечно, нет ничего нового в идее, что память способна обуздать любые пространство-временные обстоятельства (в том числе политические). Но спектакль Родригеса проникнут обаятельной наивностью: когда человек сознательно открывает Америку во второй раз – беспафосно, интерактивно и немного с другой стороны. И доверительность его разговора не может не подкупать.
Проект необычных погодных явлений

Том Луц – швейцарский режиссер, актер и музыкант, чьи работы – на грани музыкального и драматического театра – привез «Проект необычных погодных явлений». Заметки американского физика Уильяма Р. Корлисса (он пытался, используя научный инструментарий, обосновать то, на что наука не знает ответа) существуют параллельно с тем, как актеры на наших глазах записывают звук на магнитофонную пленку, которая тут же его проигрывает. Перед нами – обнаженный механизм записи (= «запоминания»), которое происходит здесь и сейчас. Звуки с разных пленок вступают в полилог, и рождается своеобразная симфония.
Так авторы спектакля не декларативно, а эмпирически заменяют сомнительную, но привычную нам концепцию времени как абсолютной меры (по которой неуловимое настоящее должно существовать между уже не существующим прошлым и еще несуществующим будущим) на другую. Эта новая концепция более соотносится с физическим миром: время – это «нумерологический порядок физических изменений». В спектакле нет ни слова про это, но такую теорию недавно выдвинули, например, учёные из словенского научно-исследовательского центра Бистра в Птю. Единственное, что говорится в спектакле о времени, – это фраза, что боги, создавая мир, понимали: «время – довольно скучная концепция», но дали ее нам для удобства.
Здесь трудно не вспомнить режиссера и композитора Хайнера Гёббельса и его спектакль «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой», который впервые был поставлен 20 лет назад (кстати, как раз в Швейцарии – откуда Т. Луц) и который был в очередной раз воссоздан режиссером пару лет назад – теперь для Электротеатра Станиславский с российским актером Александром Пантелеевым.

В работе Гёббельса тоже возникает собирательный образ ученого (и физик, и химик, и биолог) и тоже есть какофония звуков, рожденных механизмами, переплавляющаяся временами в гармонию. Само собой, в обоих спектаклях нет и намека на нарратив. Будто в насмешку над рациональным восприятием мира, Гёббельс дает актеру реплики о математических парадоксах: то есть двусмысленность обитает даже там, где должна царить однозначность, и следовательно, науке не достичь конечных результатов. Этот тезис плотно смыкается со спектаклем Луца. В «Максе Блэке…» отсутствие цели в беспорядочных действиях героя-ученого, который не стремится ничего изобрести, созвучно принципиальному отказу Гёббельса производить смыслы. Так и к спектаклю Луца трудно подступиться с герменевтическим подходом.
SOS

Перформанс «SOS» (автор – Вера Мартынов, композитор – Алексей Сысоев) – это работа из тех, которым суждено стать глубоко личным опытом, и о которой так трудно писать отстраненно. Здесь «время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии» (И. Бродский). Ведь если цитата из «Песни песен» может звучать как поэтические строки из современного дневника; если соединимы древние свидетельства об извержении вулкана и гибели Помпеи (Плиний Младший) и современная история, в которой конкретный человек навсегда потерял любимого, – значит, времени как будто бы нет. И все это зависает в каком-то метафизическом «сейчас» и одновременно «всегда».
Вера Мартынов в интервью журналу «Театр» рассказала, что читала Плиния Младшего, сидя на Капри и глядя на Везувий, и ощущала это как диалог с ним напрямую, как полное отсутствие каких бы то ни было границ, хотя человек жил в начале I века, писал на другом носителе, иначе отправлял письма…
Действие в перформансе сведено к минимуму. Под усиливающийся гул-сирену зритель проходит по коридору из валяющихся вывернутых тел и опрокинутых пюпитров и попадает в зал, где будет исполнена сценическая кантата. В ней участвуют 14 певцов, 2 чтеца, перкуссия и телеграфный ключ (используется для передачи послания на языке азбуки Морзе; самое распространенное – «SOS»). Между двумя чтецами (назвать их актерами в этом перформансе не получается), смотрящими внутрь себя, все время сыпется тончайшая струйка песка. На 1 мм, на 2, на 3 – он постепенно засыпает их и сокращает время жизни. Он же – пепел. В нас проникает бессюжетное сплетение документальных текстов, авторы которых стали свидетелями катастроф. Монологи произносятся то шепотом, то под громкое пение хора, а иногда грохот барабанов почти заглушает слова.
«Поезд остановился посреди пути, и больше ничего не было».
«Я гибну со всеми, и все гибнут со мной».
«Все было засыпано, будто снегом, глубоким пеплом».
«Я стала жить дальше».
Существование этой работы может быть ответом на вопрос, который задали когда-то Т. Адорно: «Возможна ли поэзия после Холокоста?». Этот перформанс рожден из неабстрактной человеческой боли, из совсем живой трагедии, но вместе с тем остается мощным эстетическим явлением. Такая посттравматическая «поэзия» – не только возможна, но велика – и никакое беспафосное слово здесь не подойдет.
Великий укротитель

Завершающим событием фестиваля стал приезд в Москву спектакля «Великий укротитель» Димитриса Папаиоанну – греческого режиссера, хореографа и художника, крупнейшей фигуры европейского театра. Эта работа кажется пределом визуальной выразительности с помощью тел. Нет звучащего текста, есть пластика перформеров и их трюки.
Планшет сцены покрыт тонкими деревянными пластинами в несколько слоев. Один перформер накрывает обнаженное тело белой тканью, другой роняет пластину так, что волна воздуха отбрасывает ткань в сторону. И это повторяется раз за разом. Может быть, так сменяются времена года? Здесь ботинки укореняются в землю в прямом смысле слова. Здесь женщина с цветком сажает в землю саму себя, и только ее голова выступает над сценой. Из разных тел образуется единое тело-кентавр. Рождение, развитие человека через преодоление препятствий (начиная с того, как он учится ходить), любовь и смерть – всем фазам человеческой жизни Папаиоанну находит пластическое выражение. Он сплетает человека, природу и космос так тесно, что непонятно, что из этого – чья-то часть. То ли посеянные злаки прорастают из человеческого тела, то ли человек прорастает из них. Урожай собран – и колосья стоят в горшке. И кажется, все живое претерпевает одни и те же процессы, существует по общим законам.

Конечно, это мощнейшее философское высказывание о времени (в Древней Греции его называли Великим укротителем), о человеке и о жизни на Земле. Папаиоанну как носитель греческой культуры, к счастью, не боится таких эпических обобщений. Невероятно талантливо и технически безупречно он создает в театральном пространстве свой микро- и макрокосм.