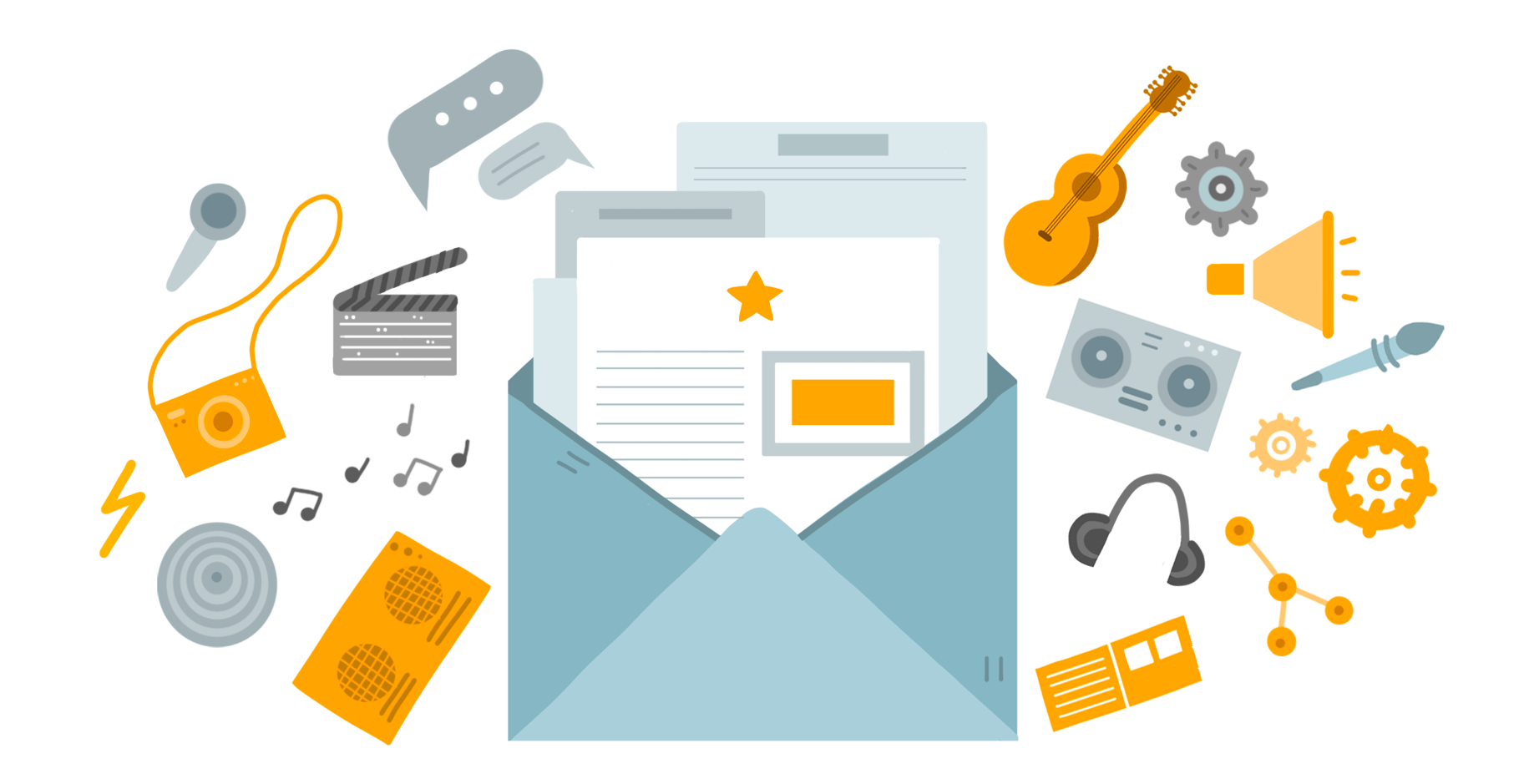Рассказы из цикла «Говорит Грубасек»

Крохотные рассказы Карела Грубасека погружают в абсурдистский мир, в котором незаметные в повседневной жизни люди и вещи становятся центром Вселенной: толстяки мнят себя божествами, люди в возрасте стремятся поскорей завести в квартире домашнего постояльца, чтобы сохранить здоровье, а мальчик-коммунальчик появляется за дверью всякий раз, как приходит время платить по счетам. Каждая миниатюра посвящена одному из явлений этого странного мира, но связующей нитью серии становится страшный Деспотович, время от времени вызывающий дрожь у героев рассказов. Мрачный и вместе с тем весёлый цикл «Говорит Грубасек» — полуподвальная сказка, оставляющая читателю пространство для фантазии и интерпретаций.
Нити
Деспотович преследует меня.
За миг до выхода — первое тому доказательство: вместо долгожданного дождя — чёрные, слегка размазанные нити полужидкой субстанции, свисающие с неба в беспорядке; мрачный, ужасный Деспотович; это как раз в его духе — обряжать мир в ирреальные декорации, не заботясь о достоверности; впрочем, мне от этого не легче, ведь одна из нитей, то завихряясь, то распрямляясь, стремительно приближается и с минуты на минуту накроет мой дом;
они только кажутся тонкими и плоскими, а на самом деле толсты и широки: пока я, не отходя от окна, снимаю плащ и шарф и заодно подсчитываю, сколько встреч мне придется отменить, сколько убытков, моральных и материальных, понести по вине отвратительного Деспотовича, черная нить легко, как бы играючи, съедает дорогу вместе с плотным потоком машин.
На первой линии
Ночью, на полупустой парковке приморского отеля — первая линия, пять звезд, — молча борются матросы;
их тела, движущиеся замедленно, как в старой кинохронике, то сцепляясь, то расходясь; их руки с уверенной плавностью полипов; их глаза, холодные и круглые, как обручи ромовых бочек; их ноги в тапочках, взлетающие высоко, чтобы наносить один за другим точные удары — ведь это схватка, хоть и бесшумная, — фосфоресцируют;
все корабли давно в море, все прибрежные бары закрыты; ни пьяных туристов, ни портовых проституток; даже ветер куда-то пропал; кто бы мог подумать, что на первой линии, у самой воды, может быть так тихо;
фосфор стекает вниз, заполняет выбоины в асфальте; прыжки матросов становятся всё выше, приемы борьбы — все искусней; и вот уже к искрящимся токсичным лужам начинают слетаться, как мушки на свет, кошмары тех, кто остался в отеле ночевать, — и не оказалось рядом никого, кто бы их вовремя разбудил.
Перед футболом
В прибрежной пещере, в пустотах, образованных ветром и водой, лежит отец. Место вполне подходящее, чтобы скрыть отца от людских глаз,— приходится только осторожничать, чтобы не напороться на морского ежа или рыболовный крючок. Дважды в сутки тоннель, ведущий к пещере, затапливает прилив, и его приходится чистить от песка и ила. Если этого не делать, отец может задохнуться.
Медленно, избегая резких движений, приближаемся. Футбол вот-вот начнётся, и отец выказывает признаки нетерпения. Он почти слился с губчатым камнем, лишь глаза, руки и пивной живот выдают его. Да, живот особенно: белый от морской соли, мерно вздымается в полутьме в ожидании пива и спортивных снеков — чипсов, вяленого бычка.
Обоснование необходимости толстяка
Иногда, вернее, очень часто в моменты душевного томления я думаю о толстяках.
Толстяки — вот настоящие короли мира. Пока худой мечется, спешит, борется за существование (и всегда проигрывает), толстяк не торопясь занимает все лучшие горизонтальные поверхности, потому что знает: он уже состоялся, и ему не нужно ничего доказывать ни себе, ни другим
Привлекательный и многообещающий образ толстяка в культуре, например, у Данте... а впрочем, оставим пока культуру: толстяк и без неё отлично справляется
«Я, поцелованный богом», — так представляется он чужакам, если только вообще считает нужным представляться
Широченность толстяка, во-первых, упрочивает его положение в мире, а во-вторых, служит намеком на метафизическую глубину: я мечтаю о философском языке, который описывал бы одних только толстяков (что же ещё?)
Есть в фигуре толстяка нечто отцовское, незыблемое: посмотрите на него внимательно, и вы ощутите почти религиозное благоговение —
отец тысяч, вяло колышущийся толстяк
«Сие есть тело моё» — изрекает он, важно шевеля пальцами ног; и эта пантомима гладеньких розовых кругляшей — единственной доступной взору части, ибо остальное скрыто, как Кааба от неверных, туманом — наводит на мысль:
если так хороши пальцы, то каково остальное? И вот ты уже, сам того не желая, попадаешь в сети; ты, который никогда никого не любил, готов провести возле толстяка целую вечность
Любишь ли ты толстяка по-настоящему, способен ли оценить и воздать ему должное, или он кажется тебе только забавной игрушкой? Если так, увы, это доказывает, что ты недостоин его
ибо толстяк — это слишком тонко
Мне ничего не стоит купить толстяка на черном рынке — деньги-то у меня есть; но я не хочу делать этого. Во-первых, толстяки с черного рынка бывают визгливы и болезненны, а во-вторых, мне недостаточно просто взять и купить толстяка — я хочу покорить его. Пусть это будет мой победоносный толстяк.
Постоялец
Если в квартире пустует комната, самое правильное решение — отдать её постояльцу.
Паучьи углы и мышиные норы, позабытая ветхая мебель, от скрипа которой по ночам холодеет сердце, спертый воздух, где умирает любая удачная мысль, — если есть у тебя такая комната, пусть даже только комнатушка, отдай её постояльцу.
Никаких шуток — в конце концов, это вопрос твоего здоровья. Людям, особенно немолодым, незаселенное пространство противопоказано: они хиреют, теряют волосы и память, и кажется, что перед тобой уже не человек, а колыхаемое осенним ветром растение. Так что постоялец — не мещанская прихоть, не игра праздного воображения, но необходимость.
Кстати, лишняя копейка тебе тоже не помешает, ведь деньги у тебя водятся лишь от случая к случаю, а постоялец всегда, за редкими исключениями, платёжеспособен.
Нередко потенциальный постоялец, чуя, что в жилом пространстве образовалась запустелость, стучится в дверь ещё до того, как хозяин дал объявление о съёме. Если незнакомец у порога тебе не противен, если манеры его учтивы, а физические недостатки не слишком бросаются в глаза — значит, уживётесь. Все, что теперь от тебя требуется, — это сказать «да». Все остальное постоялец сделает сам.
Разве он не занятен в своем старомодном сюртуке, болтающемся свободно, с лицом, словно никогда не видевшим солнечного света? Только начнет раскладывать вещи — пальчики проворные, кожа тонкая и зеленоватая, — и ты уже против своей воли улыбаешься, качаешь головой, хлопаешь в ладоши: ай да постоялец, ай да пройдоха! До чего ловко осваивает пространство!
А там, глядишь — уже и пыль сметена, и воздух гуляет свободно, и половица скрипит под тяжестью человеческой ноги, как ей и положено.
Маляры
Из-за Деспотовича мне пришлось нанять двух маляров. Толку от них немного: пока они, сбиваясь с ног, затушёвывают одну линию, Деспотович успевает наделать десять новых —
десять ужасных смоляных линий, запрещенных в классическом пространстве;
что я могу противопоставить этой провокации? Увы, только маляров-неумех; впрочем, дрянные маляры — всё же лучше, чем ничего; на войне, как говорится, все средства хороши;
иногда мне кажется, что маляры — это лишь предлог, уловка ума, который больше всего боится остаться в одиночестве среди декораций Деспотовича;
глупая возня — вот что помогает не спятить, удержаться на зыбкой поверхности; и когда день, истраченный на созерцание неравной борьбы, подходит к концу, я чувствую, кроме досады, ещё и облегчение, жалкую радость, что всё закончилось не так плохо, как могло бы.
После того, как в звенящей вечерней тишине я выдаю малярам жалованье, всегда, конечно, урезанное — они и сами знают, что больше им не полагается, — мы садимся ужинать;
молча ютятся маляры за столом, не смея поднять глаз, даже своим мелким умишком понимая, что еще одна битва проиграна, ещё один день потрачен впустую, и терпеливо ждут, пока я разливаю по тарелкам — так медленно, как только умею, — едва теплый суп. Едят они жадно, как собаки, ловя на лету хлебные корки, которые я бросаю им, — после чего встают и на цыпочках удаляются в будки, те, что я построил для них во дворе из щепок, земли и прошлогодних листьев.
Мальчик-коммунальчик
Кто там возится в коридоре, шуршит настойчиво? кто же, как не мальчик-коммунальчик, мой деловод и поверенный;
мальчик-коммунальчик под дверью — значит, прошёл еще один месяц, казавшийся дурной бесконечностью; значит, настало время заплатить по счетам;
мальчик-коммунальчик скребётся, просится внутрь; но я слишком занят, чтобы отвлекаться; тогда дверь приоткрывается, мальчик-коммунальчик проскальзывает сквозь узкую щель, делает несколько шагов и останавливается в нерешительности;
полуподвальный работник, зябкое создание: ростом невелик, жмётся к стене и глядит жалостливо, что твоя собачонка; лицо выбеленное, как у клоуна, уголки глаз опущены вниз; в любую погоду на нём драповое манто, пахнущее нафталином и барбарисными конфетами, на голове шляпа, на ногах плотные чулки и туфли — все чёрное, присыпанное пылью;
в предпоследний четверг месяца, незадолго до темноты, появляется мальчик- коммунальчик; я завариваю чай, достаю из шкафа угощение — ржаные сухари — и мы ужинаем, я в кресле, а мальчик прямо на полу, молча, без церемоний;
иногда я добавляю в чай пару капель молока и смазываю сухари маслом — слегка, только для блеска, ведь баловать мальчик-коммунальчика чревато;
как говорится, сытый деловод — хозяину обсчёт;
чтобы не терять времени, за ужином мы корпим над бумагами; с первым же счётом мальчик-коммунальчик начинает мелко дрожать, ерзать от нетерпения, попискивать; ведь это хоть и коммунальчик, но все-таки еще мальчик;
правда, за несколько лет работы он заметно поутих, лицо вытянулось, на лбу появились первые морщины; предыдущий коммунальчик, земля ему пухом, тоже пришел ко мне на службу мальчиком, а ушел старчиком, и уходя говорил: лучше всего для мальчика совсем не родиться на свет, а если уж родился, то поскорее стать коммунальчиком;
лучше и не скажешь; одному богу известно, во что вырождались бы мальчики в мире без счетов, подвалов, водопровода; и только ему, богу, известно, что в этом мире первично — мальчик или счёт, счёт или мальчик;
впрочем, сегодня мне не до философии: пришел счёт за отопление, ведь на дворе, оказывается, уже осень; вот так куш для мальчик-коммунальчика! тот уже учуял его и облизывается;
только без глупостей, коммунальчик! — но мальчик и не думает глупить, он теперь сама расторопность; никаких пубертатных капризов, никакой нерешительности; передо мной — ловкий финансист, блестящий бытовой компаньон;
стремительно выпрастывается из-под манто рука, ведет желтым коготком по колонкам, рыщет в числах, — до тех пор, пока всё не будет тщательно рассмотрено, изучено, проверено; и когда с арифметикой покончено,
мальчик-коммунальчик вытягивает жилистую шею из воротника и подводит итог протяжным вскриком,
как зверь, который увяз в болоте;
внутри меня что-то обрывается; руки не слушаются, когда я пытаюсь собрать бумаги; мальчик-коммунальчик кричит, единственная лампочка мигает и вот-вот погаснет, за окном медленно разрастается темнота;
может быть, мне стоило быть с ним сегодня поласковей? налить ему молока?
но уже поздно, он будет кричать и кричать, пока не вытрясет из меня всю душу — а потом молча возьмёт деньги, поднимется с пола и исчезнет, ни ответа ни привета, —
такие, как он, только перетасовывают все цифры, обирают вас до нитки, мнимые помощнички, в квартире мороз, снаружи темно, осень, ветер, новые счета на подходе, того и гляди влезешь в долги и окажешься на улице, —
а им и дела нет, они уже смылись, проглотив и чай, и сухари, еще и тянут всё, что плохо лежит, кусок побелки или открытку из курортного города, в существовании которого ты, честно говоря, всегда сомневался, — неважно, лишь бы напакостить, лишь бы наложить коммунальную лапу на чужое добро.
Белград
Куда едем? — спрашивает водитель в барашковой шапке, такой пышной, что меня одолевают сомнения, видна ли ему из-под неё хоть часть дороги. Автобус на три четверти полон, но все молчат;
и вот я неожиданно для себя самого — а собирался только к дяде в Белую Церковь, туда и назад, — предлагаю ехать в Белград;
со всех сторон слышатся аплодисменты, одобрительные крики, Белград нравится всем, особенно женщинам, к счастью, соседнее со мной место освободилось и одна из них теперь сможет составить мне компанию —
но не тут-то было: место уже занял двухметровый серб, желающий брататься; серб широк и неотвратим, как Дунай; мне остается лишь вжаться в оконное стекло и молиться о том, чтобы Белград наступил поскорее;
серб рассказывает мне истории, которые я не могу понять, и одновременно достает разные вещи из своего дорожного чемодана: бутылку пелинковаца, деревянную статуэтку орла, бестселлер Павича, сырокопченую колбасу, фото черноволосой крестьянки, купающейся в деревенском чану;
я слушаю его бормотание, засыпаю, просыпаюсь, снова засыпаю, голова моя клонится к могучему плечу серба; видно, он нашел во мне друга, теперь он показывает фотографии детишек в овечьих тулупах, похожих между собой как две капли воды; когда он называет их имена — А-дри-ян, Го-ран, Не-бой-ша... — голос его смягчается, я пытаюсь считать детей, но глаза слипаются, и я постоянно сбиваюсь со счёта; и все-таки я не отчаиваюсь и, силясь поддержать разговор, спрашиваю:
Так вы знаете Деспотовича?
Вдруг что-то случается. Автобус тормозит и съезжает на обочину. Серб шикает, пригибается, тянет меня за собой; я вяло сопротивляюсь, я не понимаю, в чем дело, почему все лица устремлены в нашу сторону и в глазах каждого читается ужас;
серб, вжавшись в мои колени, так что они хрустят, охает. Что ты наделал, говорит он на ужасно исковерканном английском, сейчас нас всех сцапают;
пригвожденный к креслу, я молчу и жду, гордость не позволяет мне искать оправданий, снисходительно смотрю я на мечущихся пассажиров —
как они пытаются спастись бегством через открытую дверь — и тут же шарахаются назад: солдаты, грязные, с торчащими по бокам ветками для маскировки, оцепили автобус и выводят всех наружу;
картина безрадостная: голое поле, ночь — женщины тихо стонут, дети плачут, старики лежат прямо на голой земле между чемоданами;
мы с сербом стоим у забора, как преступники, руки над головой; серб распахивает пальто — к огромному туловищу его примотаны скотчем блоки сигарет, отчего он напоминает давно виденное мной панцирное насекомое;
не хочешь купить пару пачек? — говорит он без улыбки, почти с отвращением — как человеку, который не оправдал его ожиданий;
нет, спасибо, я не курю, и всё же интересно, что он будет делать, если сигареты найдут; ведь это не сложно, а уж для головорезов из оврага вообще раз плюнуть;
раньше надо было беспокоиться, отвечает серб; разве кто-то тянул меня за язык, разве не предупреждали меня, что с обряжателем шутки плохи; кто знает, доберемся ли после такого до Белграда; о, если бы я только не говорил того, что сказал! — могучие плечи серба сотрясаются от рыданий, да, теперь я чувствую, как велика моя вина перед ним, перед всей Сербией, до которой мне, видно, никогда не доехать;
в смущении я вытаскиваю сигарету из открытой пачки, серб, всхлипывая, дает мне прикурить, солдаты копаются в чужих вещах, усталые пассажиры укладываются спать в поле;
знаю, это только начало, грошовая прелюдия к тому, что должно произойти; всё, что мне остается, — это курить и ждать, пока Деспотович, он же обряжатель, Le Grand Commandant des Balkans, нанесет настоящий удар.
Туфельник
Есть у меня один знакомый туфельник; всего один знакомый туфельник, а столько радости
впрочем, горя всё-таки больше, чем радости; впрочем, вернее, поровну
знакомы мы только шапочно, а если призадуматься, то и совсем не знакомы
морда у туфельника большая, а ножки маленькие и хрустальные, как у женщины, что догадывается о своей поверхностной непорочности
если бы можно было взять и описать вам его красоту: вот так взять и описать туфельника, с морды до ног и с ног до морды
однако, неописуем, ибо туфельник — не быль, но миф и греза об эдеме потерянном
мразь он, говорю вам, мразь беспросветная и шарлатан; каждую ночь — он сам мне признался —
ходил от тьмы болота по тайне, по пене двух тертых кляч,
по хребту великого пороса, по долине майоликового лося,
между богом и сапогом, по спинному мозгу жены крота, кротихи
вот так каждую ночь ходил и, представляешь, туфельки собирал
Белизна
После бурь Деспотовича, которые поглощают порой целые города, а потом, перебирая черными нитями, бесследно исчезают в океане, всегда становится бело;
все, что остается после обряжателя — эта мраморная белизна; описать ее едва ли возможно: есть в ней что-то и от изначального хаоса, и от детской уловки; знаю только одно: если долго всматриваться в белизну, то она окажется снежным полем,
и вот уже один за другим проступают на нем предметы, соразмерные человеку: след от саней, покосившийся столб-насест для ворон, поваленное дерево —
первые ласточки, робкие приметы реальности; не бог весть что, но и этого пока достаточно, и этого хватит на месяцы и даже годы напряженной умственной работы;
в конце концов, главное, чему учит жизнь между двумя крайностями, имя которым Деспотович и белизна, — это осторожность и несокрушимое трудолюбие.
Заглавная иллюстрация: Даша Кузьмина