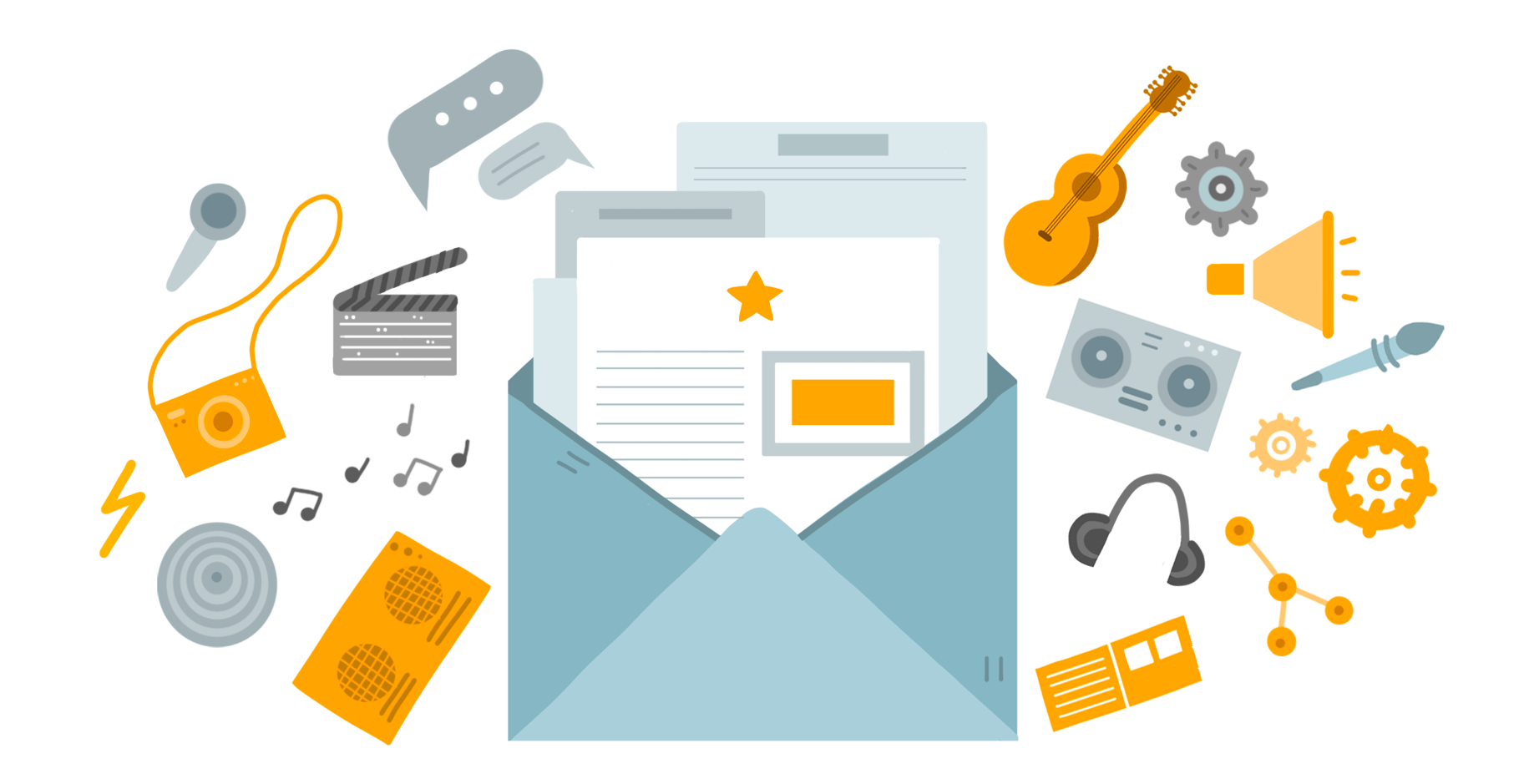Дореволюционный краеведческий музей с приходом советской власти стал носителем «заземленного» на регионы «большого нарратива». В течение долгого периода локальная история в регионах и сбор артефактов были подчинены единым инструкциям. После отмены этой системы краеведческие музеи оказались заброшенными и развитие новых нарративов в них происходило медленно. О том, к чему может привести такая тенденция, рассказывает фотограф, художник, куратор и географ Софья Гаврилова.
— Чем музеи досоветского периода отличались от раннесоветских?
— Я занималась периодом конца XIX-го века — начала XX-го. Их отличительная черта заключалась в том, что у них была довольно большая в этот период времени финансовая автономия. И до 1921 года идеи о том, что этими музеями можно как-то централизованно управлять, не было.
Главная их ценность заключалась в том, что они во многом были ориентированы на производство какого-то нового знания и на удовлетворение любопытства, чем более поздние советские музеи, которые, скорее, старались угодить написанным инструкциям по их управлению и репрезентации.
— Как формируется советский музей?
— Сверху вниз были спущены определенные принципы, как регион должен быть представлен и за счет каких предметов и тем. И это было намного больше про вписывание региона в эту матрицу, спущенную сверху, чем про попытку выработать какую-то национальную идентичность и поиск особенного чего-то. И это был еще такой уклон в воспроизводство типичного. Потому что краеведческие музеи — это всегда про типичное, про стандарт. Была «советскость» и взгляд в будущее как характерная черта таких музеев.
— Действительно ли часть экспонатов была включена только потому, что соответствовали этой линии, а другие — нет?
— Политика в отношении артефактов связана с тем, что вообще такое артефакты, какие из них являются ценными, а какие — нет. Создавались ли специально новые экспонаты? Конечно, да. Ну, или, по крайней мере, писались новые тексты, которые эти экспонаты объясняли. В любом случае какой-то новый контекст был произведен — по отношению к ним это точно.
— В чем заключалась пропаганда, которая проводилась в этих музеях до 1955 года?
— Она заключалась в том, что был навязан триединый стандарт в краеведческих музеях, который мы все видим и знаем: история, природа, общество. И каждый элемент был пропитан главными советскими теориями, которые в то время были в этих областях науки. То есть вполне определенный исторический нарратив, вполне определенная репрезентация отношений человека и природы. Природа как ресурс для строительства великого прекрасного социалистического будущего, отвержение всего царского периода как имперского. Позже — это верификация победы в Великой Отечественной войне.
Иными словами, в знание, которое настолько глубоко культурно и социально в нас сидит, что мы практически не можем себя от него отделить, закладывается пропаганда и определенный взгляд на то, как устроен мир.
У каждого музея был набор тем, нарративов. Я привожу в пример «Национальный атлас России», который был создан по советским лекалам. Есть карта, например, ресурсов бурого медведя — не карта распространения бурого медведя, а карта ресурсов бурого медведя. Кроме исторических нарративов и каких-то манипуляций в исторических общественных репрезентациях, это был еще и довольно специфический взгляд на то, как устроены взаимоотношения человека и внешнего мира, окружающей среды. До 1955 года эта система практически не менялась. После произошли три вещи, которые немного друг другу противоречат.
Первое — ушла централизованная ставка на эти музеи, которая была в советское время. Когда мы читаем книгу Евгения Добренко о позднем сталинизме, он там говорит, что после победы в Великой Отечественной войне создается музей землеведения МГУ на последних этажах главного здания. Это то же самое — музей естественной истории, но он создается не только на материале родины, это не только репрезентация России — это репрезентация всего мира.
И это очень громкое заявление: теперь наши представления о мире мы спроецируем на весь земной шар. Ставка на то, какие репрезентации производить, поменялась. Взгляд внутрь себя ушел.
С одной стороны, появились абсолютно другие геополитические амбиции, которые надо было чем-то подкреплять. С другой — как раз в 1955 году было последнее централизованное действие по отношению к этой краеведческой сети музеев. Оно заключалось в том, что было спущено указание по внедрению культа десталинизации.
Краеведческие музеи оказываются в тени, и в этом их трагедия, с одной стороны, и с другой — потенциал был в том, что они могли быть отданы опять на откуп каким-то инициативам по выстраиванию локальной идентичности. Чего, как мы видим, на уровне сети музеев повсеместно не случилось.
Они не стали снова тем, что было апроприировано государством. Если мы посмотрим на государственные музеи, это, скорее, параллельно созданная сетка музеев «Россия — Моя история», а не внедрение какой-то новой политики повсеместно по краеведческим музеям. Но они же и не полностью ушли как центры выработки локальных нарративов, что тоже можно было ожидать. Поэтому музеи остались в довольно амбивалентном состоянии.
— Можно ли сказать, что создание этих музеев заранее планировалось властью как площадка для этих идей?
— Не совсем так. Я бы сказала, что происходил следующий процесс: 1917-1928 годы называются «периодом золотого века краеведения». Такое название он получил по двум причинам: критики советского краеведения говорят, что это последняя декада, когда была относительная свобода в этой области, а адепты советского краеведения говорят, что это был невероятный бум. Я не думаю, что в 1917 году культурная пропаганда заглядывала так далеко.
Слово «краеведение» придумали в 1921 году, до этого они не назывались краеведческими, а просто существовали как какие-то отдельные институции. Интенция была не столько в том, чтобы их размножить, сколько в том, чтобы их как-то объединить и начать контролировать, потому что они выглядели как очень опасные островки свободы. Была скорее потребность в том, чтобы их контролировать, а не развивать.
— Почему они были островками свободы? Пытался ли кто-то в этот период преодолеть советскую интертность?
— В 1917–1927 годы никакой советской инертности еще не было. Изначально первые музеи, которые появлялись в конце XIX века, — это музеи, которые были созданы политическими ссыльными в царское время. Их создавали интеллектуалы, которых сослали и которые стали разбираться, куда они попали. Они получали поддержку и выглядели как довольно опасное движение, потому что очень часто противопоставляли себя как ученых официальной науке. Это было такое народное инакомыслие, поскольку оно было вне академических институций.
Если мы хотим говорить о противопоставлении себя советской инертности, мы должны говорить о периоде после, 30-50-е годы. Было большое дело против краеведов, когда почти всю краеведческую верхушку вычистили и назначили новую. Но это не потому, что они себя как-то противопоставляли, а потому что сменился угол зрения советской власти на вопрос о том, что дозволено и не дозволено.
— В каких отношениях музейная верхушка того периода была с академическими сообществами вузов?
— С начала советского времени, как начал открываться проект советского краеведения, конечно, все были в очень хороших отношениях и по одну сторону баррикад. Были наверняка попытки выработать альтернативы, на которые стоит смотреть от региона к региону. Но в целом, конечно, все были очень счастливы и работали вместе.
— А после 1955 года?
— Мне об этом говорить сложно, я могу только спекулировать. Насколько я понимаю, вся краеведческая сеть довольно долго занималась инертным поддержанием нарративов, которые там были.

— Есть мнение, что после 1955 года в этих институциях ничего почти не изменилось. Согласны?
— Я целую книжку написала, чтобы ответить на этот вопрос. Это так, но не так. Исключения есть и изменения есть. Изменений нет на уровне системы. Но сейчас от поколения чуть младше есть интерес к этим музеям. До этого краеведческий музей был самым застойным, что есть в городе. Туда ходили только со школьными экскурсиями. По собственной воле ты бы туда ни за что не пошел, потому что ты даже не ожидаешь там ничего увидеть такого, что тебя может как-то задеть. Я думаю, что застой был, потому что система была давно забыта и оставлена в таком состоянии. Никому не захотелось ее реформировать после распада СССР, тогда как многие другие институции и подходы были пересмотрены. И, как я и сказала, скорее начали возникать новые институции, и прогосударственные, и независимые, а не возрождение краеведческой системы.
Сегодня в краеведческих музеях выработка новых нарративов происходит довольно сложно. В отдельных музеях были разные инициативы — в Томске, в Находке, в Нижнем Новгороде.
— Что потеряли регионы и какую информацию могли потерять регионы о своем прошлом, в связи с этим?
— Здесь нужно говорить о двух уровнях — с одной стороны, ушла возможность создавать независимую память о советском периоде на региональном и локальном уровне. Есть еще одно последствие, которое заключается в том, что если мы говорим об отношениях центра и периферии, то история с артефактами была далеко не однозначной. Например, очень много артефактов в Якутии, которые находили в деревнях, все равно отправлялись в Якутск как местный центр. С одной стороны, объекты оставались в регионах, а не отправлялись в какой-то государственный центральный этнографический музей, но при этом очень часто все равно отправлялись в местный центр. Потеряна и возможность, и навык, и умение, и понимание необходимости вырабатывать локальные исторические нарративы. Но при этом это повлияло на сохранность самих артефактов в регионах.
— Как происходило пополнение артефактов в СССР?
— Были планы и проекты по комплектации фондов. Было решение о том, что у нас краеведческая пятилетка, все было привязано к пятилетним планам. Например, если в таком плане прописано какое-то количество геологических экспедиций в регионах, то к ним подключались краеведы. Сооружались экспедиции, чтобы привезти какое-то число артефактов и укомплектовать фонд.
У нас есть один центральный национальный нарратив, в который региональные музеи должны были встроить свою историю, свои артефакты. Это первый самый понятный уровень. Например, нарратив о Великой Отечественной войне, вне зависимости от того, в какой степени он затронут на территории, в любом случае должен был быть в музее. Гранд-нарратив, который приземлен в регионы.
— Были ли попытки в истории краеведения выйти из-под гранд-нарративов?
— Конечно же, такие попытки были. Например, после десталинизации многие музеи начали делать отделы, посвященные репрессиям. Но вопрос не в том, как упоминать. Вопрос в том, что, например, в том же Якутске у вас четыре огромных стенда, посвященных Великой отечественной войне. И дальше у вас один стенд с георгиевской ленточкой, на котором говорится: а еще у нас были репрессии. Это не значит, что они вырабатывают какой-то другой нарратив. Это значит, что они просто отдают должное и упоминают.
История создается в том числе через семейную память. Мы рискуем потерять большой пласт истории, если не будем знать, что происходило в этот период. Это грозит нарративом, который будет представлять скорее центральную повестку, чем ситуацию на местах.