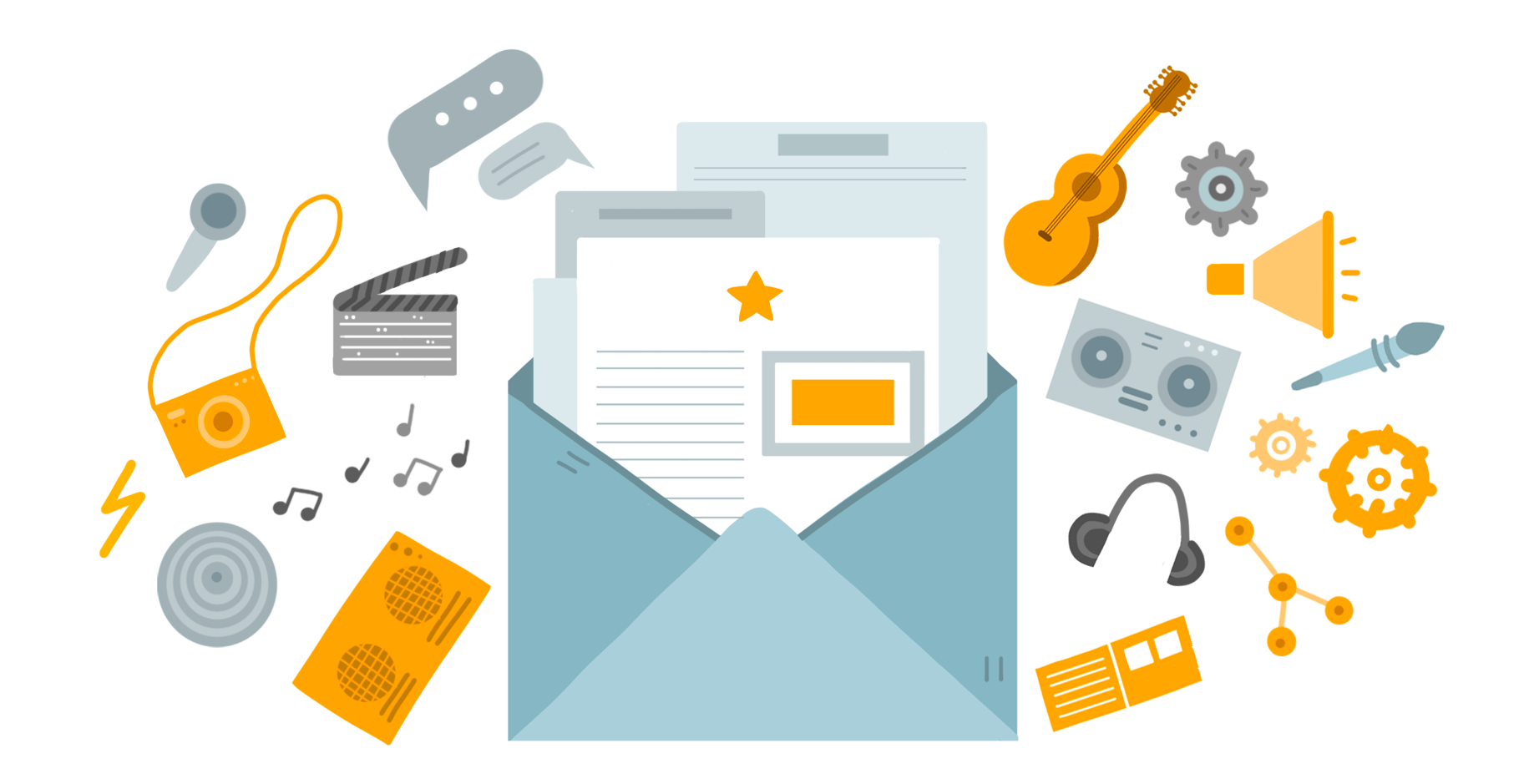«Все государства — концлагеря, все президенты — директора тюрем. Нет понятия хорошего государства — все государства одинаковые». Художник Матвей Крылов попал в Национал-большевистскую партию в 13 лет, а уже в 15 — впервые поучаствовал в захвате государственного учреждения. Работая в «Останкино», он использовал компьютеры и интернет телецентра для агитации протестующих, а позже его чуть не посадили «за покушение на жизнь прокурора». Десять лет назад совместно с писателем и лидером НБП Эдуардом Лимоновым Матвей возродил Маяковские чтения в рамках протестной Стратегии-31 — с тех пор поэтическая традиция советских диссидентов живёт назло цензуре и запретам.
Мы расспросили Матвея о захвате приёмной МИД РФ и здания РЖД с Якуниным в кабинете, жизни в Бутырской тюрьме, последней встрече с Лимоновым, причинах эмиграции, светлом будущем мира без границ, паспортов и национальностей, а также о том, что привело его в политику в столь раннем возрасте, как его брат строил Медведеву дачу в Сочи, пока Матвей сидел в СИЗО, почему культура противостоит искусству, а люди — устаревают, и как обобрать российских коррупционеров, оставив их ни с чем.

— Почему тебя называют Скиф?
— Это прозвище моей юности: когда мне было лет 11-12, мы с друзьями увлекались рэпом, брейк-дансом, граффити. В рэп-культуре у всех были прозвища, и мы тоже придумали: у меня был друг Гриф, я стал Скифом. Когда я переехал жить в Москву и появился интернет, все начали придумывать себе никнеймы — я взял дворовое прозвище.
— Откуда ты переехал в Москву?
— Из уральского города Гай — это юго-восточное Оренбуржье на границе с Казахстаном — маленький шахтерский городок, который, как и большинство новых индустриальных, после развала Советского Союза превратился в бесперспективную провинцию. Когда я заканчивал школу, у меня было несколько вариантов, чем заняться дальше: все мои сверстники поступали учиться куда-то, я тоже поступил в машиностроительный колледж, проучился там год. Девять классов я закончил в 14 лет, а в НБП вступил в 13, поэтому я уже тогда ездил в соседние города на демонстрации и...
— Ого, а как ты попал в партию в 13 лет?
— Случайно. Пошел на выступление местной гайской группы Next: они делали каверы на русский рок — Кино, ДДТ и т.д. Я тогда дрейфовал между рэп- и рок-культурой. Возвращаясь со школы, увидел объявление о концерте, пришел туда и познакомился с группой панков и скинхедов, с которыми мы договорились отметить 1 мая. Уже на празднике ребята дали мне почитать газету «Лимонка», показали их плакаты. В газете на последней странице была анкета — можно было заполнить её и отправить в Москву заявку о вступлений в партию. Несовершеннолетний я заполнил анкету. Считаю, что с того момента и вступил в партию. Чуть позже, через несколько лет, мне выдали партбилет.

— И ты сразу после вступления в НБП отправился в столицу?
— Сначала бросил колледж и уехал в Оренбург: перестал слушать рэп, перешел на панкуху: в плеере надолго осел Егор Летов, который буквально описал мою юность — как бы своим ртом пропел то сомнение, которое я испытывал по поводу окружающей реальности. Уже тогда я был радикально настроенным 14-летним панком, ставящим под сомнение привычные устои, не верящим в то, что говорят родители — в общем, как и любой подросток. Ходил в косухе, с ирокезом, с пробитием ушами — нас таких в пятидесятитысячном городе было, может быть, человек десять. Оренбург был ближайшим большим городом, куда я смотался заниматься революцией *смеется*. Там были нацболы, человек 50 — с ними мы каждую неделю клеили листовки, собирали анкеты для регистрации партии в Минюсте и продавали газеты «Лимонка». «Лимонка», кстати, гениальное издание: доцифровое время, интернет только-только начал развиваться, все сайты примитивные, а соцсетей нет — а в газете и контркультура, и политика, и поэзия, и порнография.
А уже лет в 15-16 впервые оказался в Москве — участвовал в захвате Никулинского суда.
— Расскажи про захват Никулинского суда подробнее!
— Сорок нацболов в 2004 году захватили приемную Администрацию президента Путина, забаррикадировались в кабинетах — через несколько часов их оттуда выкурили, сломали стену и всех арестовали. Сорок человек оказались в московских тюрьмах, среди них десять девушек, четверо несовершеннолетних. Большинство сели на реальные сроки. Потом их начали этапировать в колонии. Мы решили провести акцию, захватив Никулинский суд и потребовав освобождения своих товарищей, и одновременно заявить о том, что судебная система в стране — репрессивный инструмент, который занимается подавлением инакомыслия. Нацболы использовали акции прямого действия как подкрепление своим требованиям и своей позиции: одно дело напечатать листовку, другое — с этой листовкой захватить администрацию президента — тогда её текст процитирует пресса.

Мы съехались со всей России и захватили Никулинский суд — козырек, крышу, вход в здание суда. После этого нас всех задержали: совершеннолетних отправили на сутки, а несовершеннолетних — в центр временной изоляции, откуда я на следующий день сбежал, оставив там документы, телефон, какие-то вещи.
— А что случилось потом, когда ты сбежал из-под ареста?
— Потом где-то год я добирался до Оренбурга из Москвы без паспорта: тогда еще можно было дать проводнику 400-500 рублей, и тот бы тебя пустил доехать вместе с мигрантами из Средней Азии впятнадцатером в одном купе. Так меня ссадили в Самаре буквально перед Новым годом — там я познакомился с местными нацболами.
Все нацболы очень интересные, ни один не похож на другого: нет ни одинаковых убеждений, ни единого стиля — интересный винегрет, микс разных идеологий и взглядов. Микс этот, конечно, построен на радикализме и отрицании — не только на критике социума, общества потребления, власти, а именно на радикальной попытке изменить это все — вторгнуться в их комфортное политическое поле, заставить их кашлять и брыкаться.
Отметил свой день рождения в Самаре, добрался до Оренбурга и буквально через полгода, в 2006-м, вернулся в Москву для захвата Государственной думы: тогда нас кто-то из журналистов, скорее всего, сдал сотрудникам ФСБ, потому что на подходе нас принимали с пистолетами — тогда я тоже ещё был несовершеннолетним, но в отделении я соврал, что мне уже есть 18, и отправился на 10 суток ареста.

После того, как вышел, возвращаться в свой маленький город не хотелось: школьником, уже будучи в партии, я там наследил неплохо — организовал акцию антивыборную. Мы клеили листовки, и нас приняли ФСБ. Меня сдали взрослые товарищи: попал под обыск, у родители начались проблемы, к нам приходили в школу. В общем, навел кипиш мощный: на педсовете учителя и директор говорили, что не могут понять, кто меня надоумил это сделать, и как я смог собрать людей старше себя и «заставить листовки по городу клеить». В общем, в Гай мне делать было нечего, а Москва интересовала: там я впервые увидел афроамериканцев, живых скейтеров, каких-то футбольных фанатов... Благодаря тому, что нацболы — не просто политики уличные, а контркультурная молодежь — среди них также было многое художников, поэтов, философов, молодых писателей — мне импонировало это окружение, я решил, что останусь.
— Чем решил заниматься в Москве?
— Занимался всем, что партия предлагала. Например, вышло в новостях, что бастуют водители электричек — надо, значит, идти на вокзалы и раздавать им листовки, чтобы они присоединялись к протестующим. Раздавали их возле фабрик, промзон, куда люди каждое утро шли. Пытались набрать критическую массу людей, которых не устраивает положение вещей — одностороннее правление массами, где ты должен молчать и делать то, что тебе говорят. В общем, собирали всех отовсюду — ходили по институтам, общежитиям студенческим, на митинги против уплотнительной застройки — там агитировали потенциальных единомышленников. Раздавали листовки и «Лимонку» и ОМОНовцам, и полицейским, и солдатам — искали тех, кто также сомневается в адекватности властей.
— Ты тогда всё ещё был несовершеннолетним?
— Недолго. Совершеннолетняя взрослая жизнь началась первым уголовным делом. Я проходил в группе нацболов — мы захватили приемную Министерства иностранных дел, протестуя против парада вермахта в Прибалтике, против новый европейской политики, где Европейский союз вместо создания новой европейской нации, как они заявили, создавали маленькие фашистские государства, построенные на национализме. По сути, ЕС поддерживал все эти националистические силы для борьбы с каким-то пост-совком — с привязкой к России.

В 2007 году НБП признали экстремистской организацией, и мы стали нелегальны — не могли использовать свою символику, название, газету — все было запрещено. Какое-то время был переход от НБП к «Другой России» — именно в это время на нас заводят уголовное дело за экстремизм: ознакомили с материалам дела, выписали под подписку о невыезде — это был сигнал, мол, мы вас знаем — где живете, чем занимаетесь. Я к тому моменту уже успел поучаствовать в нескольких акциях прямого действия с захватами разных государственных учреждений вплоть до здания РЖД вместе с Якуниным в кабинете, с нацболами мы ездили по Подмосковью — захватывали там проходные, банки. Одно время у нас была серия акций с требованием вернуть вклады, утерянные в 90-х при приватизации. Выступали против военного призыва — по всей стране ездили, захватывали призывные пункты, военкоматы. Видимо, как-то примелькались — в списках задержанных одни те же фамилии. В ФСБ решили особо активных посадить под подписку о невыезде, и следствие затянулось на год или почти два. В это время мы не могли участвовать в акциях, потому что, если тебя на них задержат, — сразу попадаешь в СИЗО.
— И что ты делал в эти два года под подпиской о невыезде?
— Использовал их для переквалификации в smm-менеджера нацболов (хоть тогда smm и не существовало), ведь у нас забрали газету и возможность разговаривать с людьми — пришлось уйти в Интернет. В 2008-м, когда Медведев стал президентом, и власти, и оппозиция только учились им пользоваться. Пенитенциарная система требовала, чтобы я нашёл работу, и тогда мне повезло — я устроился в Останкино в телекомпанию «ВИД» на программу «Жди меня» помощником продюсера. Я использовал Останкино — их интернет и компьютер для агитации и пропаганды: сидел на их айпишнике, открывал окно в режиме инкогнито, распространял информацию о грядущих митингах, акциях, публикациях. В публикациях рассказывал, почему нужно выходить на акции и бороться с системой.
— Когда следствие закончилось — тебя отпустили?

— По приговору мне дали 2 года условно и год испытательного срока. Пришлось забыть о протестах, потому что там присутствовали и ФСБ, и центр «Э», которые снимали нас на камеры. Ни акций, ни захватов, — иначе бы мне сразу заменили условный срок на реальный. Я занялся организационной деятельностью — меня назначили бригадиром западного звена, потом северного. Раз в неделю мы встречались с Лимоновым, большой группой активистов обсуждали дальнейшие действия. Так я влился в Стратегию-31, вошел в оргкомитет: нас было четверо парней, мы занимались агитацией, созданием материалов, продумывали публикации, планировали акций — все, что связано со свободой собраний в России.
— А как Маяковские чтения стали частью Стратегии-31?
— В один из вечеров, когда мы обсуждали стратегию, сидя у Лимонова в квартире, тот вспомнил о диссидентской традиции — о том, как в 60-е читали стихи возле памятника Маяковскому. Я ему говорю: «Эдуард, это офигенно, нужно возрождать!», — он отвечает: «Так, слушай, мы этим заниматься постоянно не будем — у нас есть своя история. Но давай попробуем организовать».
Запланировали первое чтение — пришло много прессы и много не-нацболов — людей, кто прочитал об этом в интернете. Тогда и появился Матвей Крылов. В анонсе нужно было подписаться, и чтобы не подписываться именем, под которым меня судили, и не привлечь к чтениям внимание ФСБ-шников и ментов, — я придумал себе псевдоним. Его я взял из «Шли солдаты» — советского фильма. Матвей Крылов — первая роль Сергея Бондарчука: два солдата покидают линию фронта и идут к царю требовать перемирия, окончания войны.

На первых чтениях удалось создать интригу, будто это какой-то культурный фронт: пришла и пресса, и люди, не вовлеченные в политику, и люди, которые с нацболами, наверное, не вышли бы никогда. Прошло успешно: я полностью скопировал Стратегию-31 — только она проходила каждое 31-число (не в каждом месяце оно есть) — Маяки же проходили каждое последнее воскресенье месяца. На вопрос Лимонова, что будет, если чтения совпадут со Стратегией-31, ответил: «Совпадет — будем читать стихи».
Нацболы долгое время составляли массовку Маяковский чтения. Когда ты стоял на Триумфальной площади и смотрел по направлению в сторону памятника, — была видна большая группа людей — это были они — стояли без флагов и символики. Поэтов вначале было немного, может, 15 человек.
Я занимался Маяками с большим интересом — всё это меня увлекало и радовало. К тому же, я тогда вёл блог в ЖЖ — в пик популярности платформы — и нашёл много неравнодушных единомышленников.
— Как прошёл разговор с Буковским?
— Буковский во всей истории появился случайно. Для меня было счастье познакомиться с живой легендой. До этого я прочитал его книгу про диссидентское движение в СССР «И вновь возвращается ветер». Он зачем-то поехал в Россию, движение «Солидарность» сделало с ним публичную встречу.
Мы это обсудили на оргкомитете Стратегии-31: тогда случился конфликт между Людмилой Алексеевой и Эдуардом Лимоновым — нужен был кто-то серьезный, авторитет, который занял бы список подписантов, потому что Алексеева оргкомитет покинула. Я озвучил идею пригласить Буковского в комитет, решили, что задам ему вопрос на встрече с либеральной общественностью. Я пришел в офис ОГФ: спросил из зала, хочет ли он войти в Стратегию-31, он без раздумий ответил: «Да, я знаю про неё и хочу».

Мне доверили оформить его заявку, я приехал в квартиру Александра Подрабинека, который тоже был советским диссидентом — он делился воспоминаниями, я рассказал про Маяки, — он был горд и сказал продолжать. А когда я сидел в СИЗО, он написал письмо в мою поддержку, мы переписывались, он присылал мне главу из новой книги, которую так и не опубликовал.
Собственно, закончился мой условный срок, и меня посадили, но так совпало — просто стечение обстоятельств...
— Это тогда, когда ты облил прокурора водой?
— Да! Условно сегодня меня забирают на Стратегии-31 на Триумфальной площади, арестовывают, вечером освобождают, а на следующий день — сажают в тюрьму: у меня условный срок был до 28 октября, а арестовали меня 29-го. В суде государственный обвинитель давил на то, что я неисправим, что я злостный нарушитель: «День, как с него снимается условный срок — и тут же “покушается на жизнь”».
— Расскажи подробнее про Манежное дело: почему прокурор услышал вообще не то, что ты говорил? И почему решил, что это покушение?
— Сама Манежка как раз проходила во время Стратегии-31: в наш оргкомитет входили и левые, и либералы. Мы приглашали националистов принимать участие без флагов, без символики — единственной целью была защита свободы собраний, ведь право на них принадлежит всем вне зависимости от идеологий. Представители оргкомитета ходили на разные мероприятия, общались с людьми, рассказывали о себе, знакомились. В том числе, пришли и на Манежную площадь — на митинг в честь убитого футбольного фаната. Придя туда, наши ребята не до конца оценили, что происходит, и стали участвовать в стычках с ОМНОВцами. И если другие протестующие носили маски, как-то скрывали свои лица, то нацболы никогда таким не занимались и всегда светились на всех фотографиях (для нас это было подтверждением наших намерений). Пацаны пришли домой, нашли у Варламова фотки того, как дрались с ментами, и повесили себе на аватарки ВКонтакте: естественно их нашли сотрудники ФСБ.

С момента беспорядков на Манежной площади до их неожиданного ареста и суда прошло полгода — было лето. Утром в день перед приговором я написал пост о том, что все, кто был на Манежной площади и устраивал там тот ад, — обязаны прийти и поддержать в суде невиновных пацанов, которых назначили не просто участниками, а организаторами массовых беспорядков, хотя те организовались сами собой — через соцсети, сарафанное радио — там не было ни лидера, ни централизации. В итоге, конечно, на суд националистов пришло мало, но подтянулось очень много наших сторонников — зал заседаний был переполнен, и мы большой группой около 100 человек стояли возле суда. Когда нам пришло сообщение о том, что наших товарищей осудили, мы начали думать, что можем сделать прямо сейчас — какую акцию бы провести.
Прокурор вышел перед зданием суда, тут же набежали журналисты, начали задавать вопросы, мы тоже обступили, и я задал свой: «Считаете ли вы это дело политически мотивированным?» Он сказал: «Нет, это дело не о политике, а о физическом насилии по отношению к сотрудникам полиции». Тогда я задал ему второй вопрос: «Не считаете ли вы такие сроки дикими и необоснованными для молодых людей?», — на что он сказал, что за материалами дела он не видит судеб. Тогда я взял у стоящих рядом журналистов бутылку «Сенежской» и с криком: «Не забудем, не простим», — вылил на него полтора литра. Это была газированная минералка: может, ему показалось, что она шипит. Один из парней в толпе крикнул: «Смерть прокурору!» — теперь уже непонятно, кто это.

Прокурор тут же забежал в здание суда, сказал, что на него напали. Сотрудники полиции его спрятали, он тут же написал заявление, которое потом читали исследователи: написал, что такого-то в такое-то время неизвестное лицо неизвестной жидкостью облило его с криком «Смерть прокурору» — это и послужило основанием для возбуждения уголовного дела. В Москве тогда же собрались все прокуроры — они заседали, и один из них сказал: «Вы знаете, что в центре Москвы нашего коллегу облили кислотой? Так нельзя, мы не должны позволять людям так себя вести». Там же они и решили меня наказать, чтобы другим неповадно было.
Возле суда ОМОНовцы нас жестко принимали: избили, порвали одежду. Нас было человек 15, все вместе провели 2-3 суток в отделе. Всех водили на суд, всем выписали аресты, меня единственного вернули обратно в кабинет следователя, где ознакомили с уголовным делом — мне светило 2 года тюрьмы. Так началась история с моим кратковременным пребыванием в Бутырской тюрьме.
— Сколько ты пробыл в Бутырке? Как удалось выйти? И что из жизни в СИЗО запомнилось сильнее всего?
— Просидел 64 дня. Изначально меня обвиняли по 296 статье, 2 часть — «Покушение на жизнь прокурора». В процессе следствия на очной ставке меня спросили, зачем я это сделал, а я ответил, что так хотел оскорбить систему. Следователь аж возбудился, потому что это совершенно другая статья — «Оскорбление представителя власти». Адвокат добился переквалификации из 296-ой в 319-ую, по которой нет реального ареста, поэтому меня освободили.

Запомнилось всё, на самом деле: я часто вспоминаю тюрьму и забавные истории из той жизни. Сказать, что я не думал о тюрьме раньше, — соврать: мой брат несколько раз сидел — у него было пять уголовных дел. Когда он первый раз сел, мне было 9 лет, ему 19: мы с мамой ездили к нему в колонию навещать, моих друзей нацболов постоянно сажали, и список политзаключенных не сокращался, а только увеличивался, поэтому я предполагал, что тюрьма — это условно один из моих ближайших планов.
Когда ты живешь в социуме — среди людей, которые передают только байки и небылицы про тюрьму — сам наполняешься разными мифами и стереотипами. И мой опыт в Бутырке лично для меня многие из этих мифов развенчал: я понял, что не все так страшно, как нам рассказывают, что там такие же люди, которые не выбирали, хотят ли они бороться с системой, — система сама поставила их перед фактом, что они — её враги. Любой заключенный — это оппозиционер, любой из них тебе скажет, что система жестока, что она не слышит и делает только так, как ей удобно, что судебная система полностью коррумпирована и служит в угоду государству. В тюрьме я познакомился с интеллигенцией, бытовыми зеками, наркоманами, дилерами, мошенниками, грабителями, угонщиками — эти люди, когда слышали мою историю, твердили: «Пацан, держись».
В первый же день, когда меня перевели из карантина в общую камеру, вечером мне пришла малява из соседнего корпуса — вырванная из газеты статья обо мне: я ещё не был в тюрьме, а тюрьма уже знала, что я здесь окажусь. Когда я сидел на общей сборке, там нас было человек 150 зеков, один из блатных рассказывал историю, как во время судебного заседания он назвал прокурора попугаем, потому что тот «повторял одно и то же, одно и то же». Пауза, я говорю: «А я прокурора водой облил», — тишина, все парни поворачиваются и чуть ли не хором: «Так это ты?» — и просто молча жмут мне руку. Потом случайно в бутырской церкви познакомился с одним грузинским вором в законе, который спросил, за что я здесь, потому что я выгляжу молодо: «Что за беда? Какая статья?» Когда тебя спрашивают, ты называешь статью, и обычно все её знают. Когда же я называл свою — оказывалось, что никто из зеков не сталкивался с ней и не слышал, о чем она. Вор в законе тоже её не знал, но сразу сказал: «Если будут какие-то проблемы, если чего-то будет не хватать, — всегда знаешь, к кому обратиться». Даже конвойные относились ко мне не как к зеку, не шмонали — всегда спрашивали, как мои близкие, как моя девушка себя чувствует, когда домой пойду. Они понимали, что я не уголовник, а политический, что попал за убеждения.

На свободе оставалось много людей, переживавших за меня и поддерживавших: они писали мне письма, передавали книги, средства личной гигиены, вещи — совершенно чужие мне люди помогали просто потому, что я попал в такую ситуацию.
Там же в тюрьме я начал вести Твиттер: писал посты на бумаге. Моя девушка оплачивала электронный письма, я созванивался с волей, они мне рассказывали, что происходило: тогда как раз прошла акция на Чистых прудах с Навальным. Он, по-моему, как раз впервые тогда назвал ЕдРо «Партией жуликов и воров», и сказал также: «Не забудем, не простим!» — то, что я вынес в публичное поле. Навальный поддержал группу-сайт «Пленник.орг — свободу Матвею Крылову», — могу сказать, что я чувствовал поддержку и то, что я не один.
— Твой брат тоже был политическим заключенным? Его опыт повлиял на твои взгляды?
— Мой брат сидел за простые вещи — кражу государственного имущества. Повлиял, конечно: он доказывал мою правоту — в тюрьмах сидят пацаны, вина которых составляет несколько тысяч рублей. А холеные следаки и судьи тем временем получают зарплату, помогая коррупционерам и покрывая их. Повлиял и опыт моей мамы: она всю жизнь работала, а закончилось это пенсией в 4 тысячи рублей. Брат и мама, конечно, меня не понимают: в тот момент, когда я сидел в СИЗО, брат строил Медведеву дачу в Сочи — разговаривал со мной по телефону и говорил: «Смотри, чтобы меня не уволили с работы».
— Когда ты вышел из Бутырки, — вернулся к делам партии снова?
— Когда вышел, я был уже уволен из Останкино, точнее, мне сказали, что я там никогда и не работал. Мне дали испытательный срок 7 месяцев, и по их прошествии с меня сняли все обвинения. Я, в общем-то, продолжил заниматься тем же самым, только потихоньку стал отходить от партии, потому что, видимо, вырос из подростковых штанов благодаря общению с Эдуардом Лимоновым, Борисом Немцовым, другими политиками: сам стал себе партией — продолжил вести блог, в течение года устроился на телеканал «Дождь» и в дальнейшем на акции ходил уже как журналист с пресс-картой, а если хотел принять участие, — оставлял дома пресс-карту, камеру и шёл как активист, но это происходило всё реже.

Но не переставал заниматься Маяками — проектом, значимость которого действительно понимал: это одновременно и протест, и искусство. Обычно у любого протеста должна быть цель, для Маяков целью стало просвещение и популяризация инакомыслия — и мы её достигли: новые ребята продолжают традицию — не боятся говорить, не дают себя цензурить. Это одна из немногих инициатив, которая добилась своего, не ставя главной задачей «отставку правительства».
Найдутся люди, которые поднимут знамя и пойдут дальше, а вокруг них будут те, кому не надо будет объяснять, почему это нужно делать. Второстепенная цель Маяков — приучить людей выходить на улицы, не бояться вернуть их себе, находиться на них свободно не думая, что сейчас придут менты и скрутят вас: думаю, многие вышли на улицу впервые именно на Маяки, где звучала критика власти и официальных институций.
— А когда в последний раз виделся с Лимоновым?
— На каком-то марше антикапитализма — это было примерное время Майдана, потому после того, как началась интервенция на юго-восток Украины, мои связи с нацболами полностью прервались из-за их поддержки аннексии Крыма. Я перестал общаться с партией и друзьями, с которыми был знаком по 10 лет. Моими друзьями стали коллеги с «Дождя», Маяки, либеральные блогеры, активисты. На место партии пришло гражданское общество. Хотя, вероятно, последняя встреча была, когда я работал на «Срок» — документальный сериал об оппозиции: в одном из эпизодов есть мой разговор с Лимоновым. Могу сказать, что он сильно изменился и то, кем он стал буквально перед смертью, — уже не тот Эдуард, который вдохновлял и который мог бы стать тебе примером, как отец или старший брат.
Пока взгляды Лимонова и официальной власти в России не звучали в унисон, государство все время вставляло ему палки в колеса: запрещало бывать за границей, штрафовало и так далее. Но после 2014 года он стал выезжать за территорию страны — был в Париже, ездил на Восток Украины, попал на центральное телевидение: если до этого он был в анти-листе, и журналисты не брали у него комментарии, то после охотно и активно стали его привлекать как еще один пропагандистский рупор.
— После того, как ты отошел от партии, за тобой продолжили следить власти?
— После Pussy Riot и арт-группы «Война» стало понятно, что заниматься на улице перфомансами и акциям прямого действия опасно не только тем, что тебя посадят, но и тем, что могут убить, где-то подкараулить: нацболы похоронили много своих активистов — это и Юрий Червочкин, и Антон Стародымов — их убили при очень странных обстоятельствах возле дома. Смерть Лени Ёбнутого из «Войны» — вообще отдельный случай: он погиб, буквально скрываясь от следственных органов, находясь в розыске после акции «Дворцовый переворот».

То, что ты на виду — твой плюс и он одновременный твой минус. Однажды, когда я пришел на Маяки, мне просто позвонил незнакомый номер, я взял трубку, мне говорят: «Расскажите про Маяковский чтения» — я рассказываю, и он говорит: «Я уже здесь, а вы где?» Я говорю: «Я здесь стою, так-то одет» — у собеседника неожиданно меняется голос, отвечает грубо: «Повернись быстро», — поворачиваюсь и вижу, что стоят опера, мол, «иди сюда». Для ментов, которые годами разрабатывают нацболов, всё сошлось — якобы нацбольская акция. Но я старался не смешивать Маяки с политикой: поэтому без символики, поэтому Матвей Крылов, хотя мы постоянно делали жесткие заявления от группы — требовали свободу Pussy Riot, освобождения крымских политзеков — хотя это скорее помогло нашей репутации, потому что мы нечто децентрализованное и неуправляемое, текучее, субкультурное — полностью художественная акция.
— А ты сам выступал ли на Маяках?
— Я всегда держал вступительное слово, и ребята сейчас делают также — здороваются со всеми, кто пришел. Для меня это было показателем неофициальности мероприятия — того, что все равны и рады друг друга видеть — от этого у людей загораются глаза. Иногда читал любимые стихотворения моей молодости — Емелина, Маркова, хардкорщиков, панков, анархистов. Не читал своих, потому что и не писал — своих стихов у меня нет, всегда занимался беллетристикой, написанием лонгридов, но мне очень повезло — с ранних лет меня всегда окружали поэты и поэзия.
— По поводу сборника «Нате!» — что за свободное марксистское издательство?
— Не «Нате!» книжка называется, а «HATE!» (hate) — я тогда только учился работать с визуальным изображениями — это показалось мне хорошей игрой.
Свободное марксистское издательство — это инициатива наших друзей-марксистов — Кирилла Медведева, Ильи Будрайскиса и их коллег из движения «Российское социальное действие». Ребята молодцы — они выпускают до тысячи экземпляров просто и без формальностей — книги, брошюры. Мы договорились, они озвучили сумму за печать, я повесил пост в ЖЖ, создал Яндекс.Кошелек и за день собрал необходимую сумму, даже больше на 2-3 тысячи — остановил сбор, закрыл кошелек, чтобы мне не докидывали больше, чем надо. Книжку мы издали в течение месяца — разлетелась быстро — в Фаланстере и Циолковском раскупили за первую неделю. Это был мой первый опыт книгоиздательства: там примитивная верстка, простая обложка — все сделано, конечно, в духе НБП, самиздата — на коленке за 2 копейки, на обыкновенной бумаге в количестве 999 экземпляров.

Мы планировали второй сборник — большую книжку, но не осилили по деньгам, не нашли издательство, которые бы выпустило — так появились ребята из инициативы «Последние 30» — Сергей Простаков предложил сделать отдельную главу в книге, посвященной Маяковским чтением, куда вы вошли все ребята, читающие возле памятника — это было круто — книга вышла большим тиражом, со вступительным словом от Павла Бельдюгова.
— Как думаешь, почему загнулись филиалы Маяков по России?
— На самом деле ничего не загнулось: главное — мы посадили семена. Если кому-то в будущем придет в голову организовать в своем городе Маяковские чтения, то у него есть предшественники и опыт, на который можно ориентироваться.
Думаю, Стратегия-31 в регионах тоже умерла быстро, потому что люди не видели конфронтации — ничего не менялось, не хватало шуму. Регионы равнялись на Москву, но не вытягивали, опускали руки, потому что им не хватало поддержки прессы, критической массы, социальных сетей, да и поэты тоже все начали съезжаться в Москву. К тому же, менты в регионах намного жестче, чем Москве, и всё подавляется на уровне инициативы простым звонком в полицию. Не было мощного основания, предыстории диссидентского движения, полной драмы. Выйти в маленьком провинциальном городке вдесятером — это тоже подвиг. Возможно, здесь есть и мой косяк: я немного внимания уделял региональным инициативам, а полностью фокусировался на московской истории. Поддержание региональных движух требовало выезжать, делать агитбригады. По идее, нам с Даней Берковским стоило бы этим заняться. Мы даже пытались: собрались в Пермь, но, два раздолбая, опоздали на самолет — пропустили регистрацию, нам предложили заплатить по 10 тысяч, а у нас по 100 рублей в кармане — поехали домой.
— А что с питерским филиалом?
— Питерский филиал менялся: его начинали нацболы питерского отделения, потом им занимались Рома Гонзо и Юлия Вильянен. Памятник Маяковскому в Питере стоит не на Триумфальной площади, а в закоулках — не такой примечательный, не такой грандиозный и внушающий.
Я перестал следить за организацией после своей эмиграции в 2016-м: удалил ВК, передал все администраторские функции ребятам. У меня не оставалось времени — сейчас меня окружают прекрасные горы, море, солнце, климат — я полностью погрузился в себя.
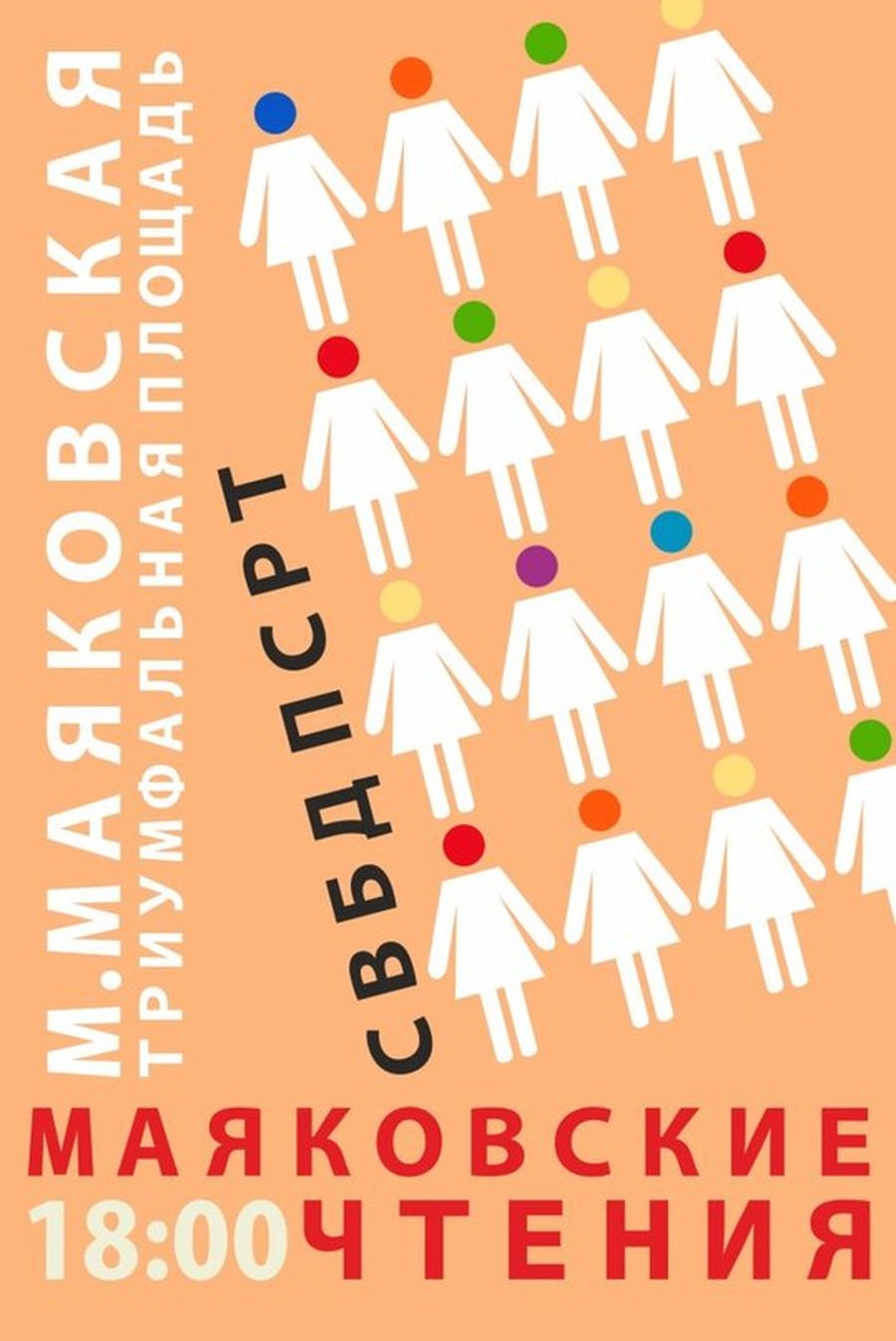
Когда переехал в Черногорию, около года не заряжал телефон и не открывал ноутбук, практически перестал пользоваться средствами связи — поддался приморскому гедонизму. Только из недавнего монолога Юлии Вильянен узнал, что в Питере всё не так хорошо, как в Москве. Всегда нужно учитывать майора-раздолбая, генерала-зависть и остальные человеческие факторы: да даже если учтешь их, — случится коронавирус, и тебе придется уйти с площади на неопределённое время, чтобы не попасть под санитарное дело и не стать политзеком, потому что функция Маяковских чтений не в том, чтобы ставить себя под удар, а совсем другая — свобода инакомыслия, разговор с людьми без цензуры.
Я уверен, что из-за пандемии и государственных ограничительных мер нам придется с нуля возвращать себе улицы: никто не знает, что они сделали с ними за два месяца самоизоляции, пока мы были буквально арестованы дома. А вернуть себе улицу нужно для того, чтобы с помощью неё уничтожить контроль. Пока она нам не принадлежит, — мы не сможем избавиться от кандалов и ограничений, наручников и запретов.
— Ты уехал из России по политическим причинам? Это уход в безопасность?
— Это давно обдуманный шаг — я хотел уехать еще в 2008 году во время войны в Грузии — собирался туда с антивоенными настроениями. Но из-за первого уголовного дела у меня забрали паспорт, из-за второго мне его не вернули, а когда закончились все преследования, нависло еще и третье — уклонение от воинской службы. Я скрывался от армии лет десять как антимилитарист.

Дождался 27 лет, получил первый загранпаспорт и впервые в жизни выбрался за территорию РФ (до этого путешествовал только внутри страны — объехал всю Россию от Калининграда до Благовещенска). Купил билет и полетел в Черногорию на разведку на месяц посмотреть, потом думал уже лететь в Грузию или в Украину, но через месяц пришел день лететь обратно в Москву: помню, что вышел на берег залива, подумал и решил, что назад не полечу больше. После этого я даже не думал и не планировал возвращаться: я не хочу ставить свою свободу и жизнь под вопрос.
Моей жизни в России угрожает опасность: это прослушка, это наружка за тобой ходит — ко мне домой в 6 утра вламывались сотрудники ФСБ, выбивали двери. Все знают прекрасно, где я живу, где у меня мастерская — туда тоже врывались сотрудники спецслужб, депутаты ЛДПР с журналистами — пытались обвинить меня в пропаганде анархизма, феминизма, гомосексуализма — чего угодно.
Все, чем я занимаюсь и интересуюсь в жизни, — в России незаконно. Опасность исходит не только от ментов и спецслужб, а от любого гражданина в трениках, которому, услышав, что я поддерживаю гей-браки, придёт в голову, к примеру, зарезать меня. В искусстве я ищу в качестве зрителя в какую-то группу, исключенную из социума: бомжи, наркоманы, зэки, мигранты — этими людьми я вдохновляюсь — копаюсь в человеческих нарывах, чтобы остальные люди слышали, что права нарушаются. Одновременно с теми группами, в поддержку которых я выступаю, существуют группы людей, которые агрессивно эти группы унижает, пытаясь назначить их виновными за свои боли.

Для журнала The New Times я делал материал о нацистских облавах: как нацисты ходят по городу и вылавливают иммигрантов, сдают их в полицию, а полиция тех депортирует на родину. Писал о том, как уклоняться от армии, как освободить себя из наручников, убежать из суда — пока ты пишешь эти тексты, твоя спина открыта — к тебе могут ворваться в дом, тебя могут убить, посадить. Это выбор тех, кто хочет стать профессиональными оппозиционерами — людей, которые копят политический капитал. Я понимаю мотивацию Pussy Riot, Навального, активистов, но одновременно понимаю, что я не профессиональный революционер, не профессиональный активист, который всю жизнь будет этим заниматься. Потому что у каждого должны быть понятные цели и задачи: если их нет — ты начнешь что-то делать и в конце концов запутаешься, свяжешь себе обе руки, не поймешь, для чего всё это.
Мне повезло, что я попал в НБП и пробыл там условно с 2003 по 2013 год, но НБП больше нет, нет Лимонова, нет газеты «Лимонка» — все, что меня связывало с юностью и с Россией, пропало — остались только менты и еще раз менты. Сейчас, когда вся планета попала под контроль, все гайки закрутились — уже неважно, где ты находишься — права человека нарушаются по всей планете: ограничения, контроль, камеры... В Черногории я чувствую себя супер-защищенно, спокойно — понимаю, что моя жизнь не в опасности, на улице не вижу толп ментов, а могу встретить одного раз в 2-3 месяца. Полицейскому тут и в голову не придет нападать на меня, спрашивать мою регистрацию, залезать ко мне в карман — здесь они выполняют свою функцию — стоят на дороге, штрафуют кого-то. Я выбрал это место из-за слабого государства — готов здесь жить. Если я, допустим, завтра вернусь в Москву, то боюсь даже представить, что со мной может произойти: меня, вероятно, арестуют, будут досматривать, залезут в телефон, а мои социальные сети будут привязаны к моему лицу.
— Как эмиграция повлияла на тебя?
— Свежий воздух, природа — всё это способствует тому, чем я занимаюсь — философией, исследованиями, творчеством. Отъезд из России повлиял на меня так же, как выход из партии: я расширяю свои границы, интересы, цели становятся глобальным — если я 2009 году я требовал свободу собраний, то теперь, допустим, требую переименовать нашу планету, чтобы она несла гордое название Вода. В Москве мне такие вещи голову бы не пришли, потому что Москва полна боли — ты реагируешь на неё, взаимодействуешь с ней, вступаешь в химическую реакцию. В Черногории нет тех элементов, которые бы вступали в химическую реакцию с Матвеем Крыловым — здесь только наблюдение за экологией, поведением людей, их отношением к природе, к смерти, к будущему. Если Москва дала мне возможность быть услышанным, то Черногория позволила остаться живым: это смена контекста, новый виток для моего мозга — я выучил язык, постоянно открываю для себя что-то новое, а в России я могу открыть для себя только новые проблемы.
— Что сейчас ценишь в жизни и в искусстве?
— В жизни — жизнь. В искусстве — выход за рамки и шаблоны. Для меня искусство значит, что можно все — даже то, что нельзя. Искусство — оно об освобождении. Уважаю смелые заявления, новаторство, а не копирование накатанных историй, поклонение старым школам. Искусство — это и есть новое будущее: оно всегда напрямую связано с фантазией, а фантазию нужно развивать.

Искусству противостоит культура — она его главный враг. Культура всегда будет толстолобой старой бабкой, сидящей и хранящей картины в Третьяковской галерее, но искусство живет там же, где создается: на рейвах, поэтических чтениях, в пыльных мастерских. Искусство не должно быть элитарным — его нужно поделить между всеми людьми, чтобы человек любого происхождения мог прикоснуться к нему, не думая, что он не талантливый, потому что его родители и учителя сказали, что цель его жизни — пойти на завод. Каждый должен иметь возможность стать художником, поэтом, писателем, музыкантом — творцом. Мы не выбирали себе поведенческие роли, которыми нас наделили, но имеем шансы скинуть с себя этих Кощеев Бессмертных, которые висят над нами и говорят, что построение должно такое-то, живопись и театр — такие, а музыка должна быть без мата. И среди своих сверстников я вижу трепещущие уважение перед старым поколением, но еще буквально лет 5-10, и мы станем тем самыми старым поколением: со временем ты становишься преемником консерватизма и старомодности. Я помню, как учил бабушку и маму пользоваться видеопроигрывателями, тостерами, стиральной машиной — уже тогда было понятно, что они устарели — эти люди. Теперь дети учат нас пользоваться дронами, смартфонами, новой техникой — они лучше разбираются в ней: понятное дело, что и мы в какой-то момент устареем. Например, недавно появился такой феномен, как крипто-арт: чувствую, что тоже уже старомоден для этого и не собираюсь на него переходить — слишком много времени уделил искусству до появления крипто-арта и не готов всё бросить и перестраиваться — я уже не молодой.

Но то, что помогает мне, пожалуй, все время: я уверен, что ДНК требует от нас жонглерства — все более сложных комбинаций несовместимых вещей: только складывая из угловатых форм можно сложить нечто грандиозное, например, пирамиду. В искусстве мне нравится эта возможность жонглировать, создавать новую мифологию. Просто время поменялось: на смену самиздату приходит блокчейн, VPN-сервисы. Есть понятие нео-шаманизма: шаманы современности не используют кости, бубны, барабаны, потому что работают с актуальными инструментами — теперь в руках магов компьютеры, телефоны, камеры и интернет. Крипто-арт — это критика рынка — того, что даже современное искусство стало элитарным, скрытым комьюнити. Сегодня появляются совершенно новые художники, никак не связанные с галереями и коллекционерами — они взаимодействуют через Instagram, какие-то там тик-токи... И это крутость: если мы вспомним художников-новаторов и поэтов-новаторов — все они использовали новые формы и критиковали устоявшиеся. Это внушает мне веру в будущее: нас ждет интересное и увлекательное время, полное новых открытий: представители всего старого сгорят, а мы придем поплясать на их ебаных могилах, как пел Егор Летов.
— Веришь в прекрасную Россию будущего? Какая она и что или кто может сделать её такой?
— России будущего в 2017 году исполнилось 100 лет — всё началось с великого русского исхода, с белого парохода с эмигрантов, которые покинули страну навсегда. Тогда появилась маленькая Россия, у которой есть вера — она живет за границами. XX век показал два русских пути — один с примесью коммунизма и всего совкового, второй — в маленькой России без этой примеси: в Нью-Йорке, Париже, Лондоне — это русские эмигранты, которые уехали, но не смогли навсегда отказаться от своего происхождения.

Светлое будущее для России — это действительно эмиграция: оставить их — пускай разбираются сами со всем. Есть такая присказка тюремная: «Раз из тюрьмы мы не бежим — придется соблюдать режим». Если ты не хочешь соблюдать режим — ты должен сбежать из тюрьмы, сломать забор и уйти — собрать деньги из банков, отказываться платить квартплату, налоги, проезд — просто оставить их ни с чем разбираться с этой страной самим. Всем осознанным людям стоит покинуть страну и жить для себя, а не бороться с тупой системой, которая тебя на каждом шагу пытается нагнуть. Чиновников-коррупционеров нужно оставить одних на один друг с другом, чтобы они, как голодные волки, сожрали сами себя — и тогда мы вернёмся в Россию лет через 50. Поэтому я призываю всех осознанных граждан России продавать недвижку, забирать бабки из банков и уезжать строить своё новые будущее, воспитывать новую Россию в лучших условиях: чтобы не было этих травм, о которых потом придётся рассказывать своим внукам или детям.
Для меня все государства — концлагеря, все президенты — директора тюрем. Нет понятия хорошего государства — все государства одинаковые. Нет хороших президентов, нет каких-то удачных парламентов — все это тюрьмы. Для меня, как для анархиста, светлое будущее связано, в первую очередь, с падением границ, с отсутствием паспортов, отказом от национальности, отказом участвовать в политических играх. Россия будущего для меня именно так и выглядит: стены рухнут, Кремль откроется и станет парком для бабушек и мам, где они будут с колясками гулять, а мы из окон Кремля выкинем все бумаги архивные, а Лубянку сделаем, например, террариумом. Без падения границ ничего светлого не будет, будет только игра в пинг-понг — пока ты играешь — шоу продолжается, а когда перестанешь отбивать мяч — партия заканчивается. Ровно это я и сделал — перестал играть в пинг-понг с государством.
— Ты говоришь, что светлое будущее — в падении границ. И искусство для тебя — тоже их падение. Поможет ли искусство России изнутри? Как поднять страну искусством?
— Вооруженным восстанием. А когда случится это восстание — художники нарисуют транспаранты, поэты и музыканты напишут гимн для бунтующих. Искусство всегда будет рядом с теми, кто борется, потому что оно вдохновляет. Пассивность и сотрудничество с консервативными инструментами государства вдохновения не приносят — там всё проплачено. Русская революция дала нам огромное количество новаторов и людей, которые создали будущее: да, с привкусом коммунизма и пылью совка, но Малевич использовал революцию удачно — теперь мы можем говорить об авангарде не как о чем-то непонятным. Малевич пел в унисон с революцией и, конечно же, использовал её для того, чтобы вознестись над своими коллегами. Искусство и революция — вещи хорошо совместимые, и их основная цель — создавать новую материю, обновлять её, а не потакать традиции.
Когда государство поймет, что против них вышли люди, у которых есть оружие, и они могут им защищаться — государство испугается. Пока оно не видит этих людей — оно не переживает, а просто закручивать гайки потуже. Если вспомнить мою молодость: можно было ходить на акции, закрывая лица, использовать деревянные древки — теперь ты уже и выходить никуда не можешь, а за пост в интернете тебя могут посадить.

Мне уже давно понятно, что разговор с ними один: они долгое время убивали всех тех людей, которых мы каждый год вспоминаем — Политковскую, Магнитского, Немцова — и оставались безнаказанными. Это проеб нашего гражданского общества — мы не ведем борьбу, мы даже не обороняемся: ходим с флагами, а они нападают.
Возможно, причина не только в правительстве и системе, а в менталитете, культуре — в самой стране.
— Скучаешь по России?
За границей мы всегда и везде останемся недопонятыми, будем чужаками с кириллицей — набором штампов о русских. Когда у меня здесь спрашивают: «А в России, наверное, сейчас холодно?» — я понимаю, что в России мне теплее в любое время года, а в эмиграции холодно всегда — даже в солнечной Черногории. В России остались мои детство и юность, которые дали мне то, что в итоге сложилось в мое мировоззрение, мои взгляды и убеждения. Я благодарен такой школе жизни: не знаю, есть ли подобные примеры в других государствах — когда страна учит тебя партизанить.
Дисклеймер: интервью не содержит призывов к чему-либо, а отражает мнение героя, которое может не совпадать с мнением редакции.