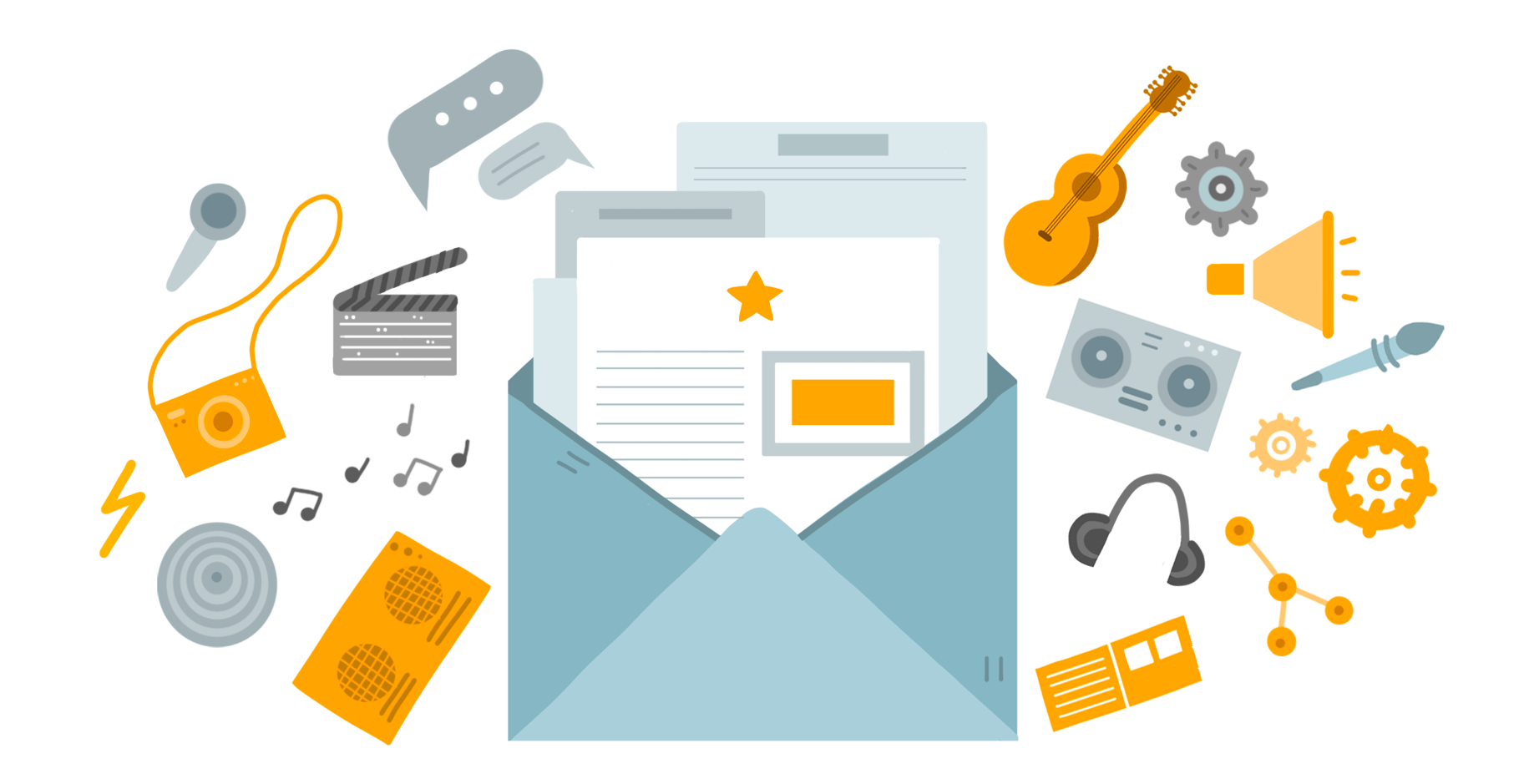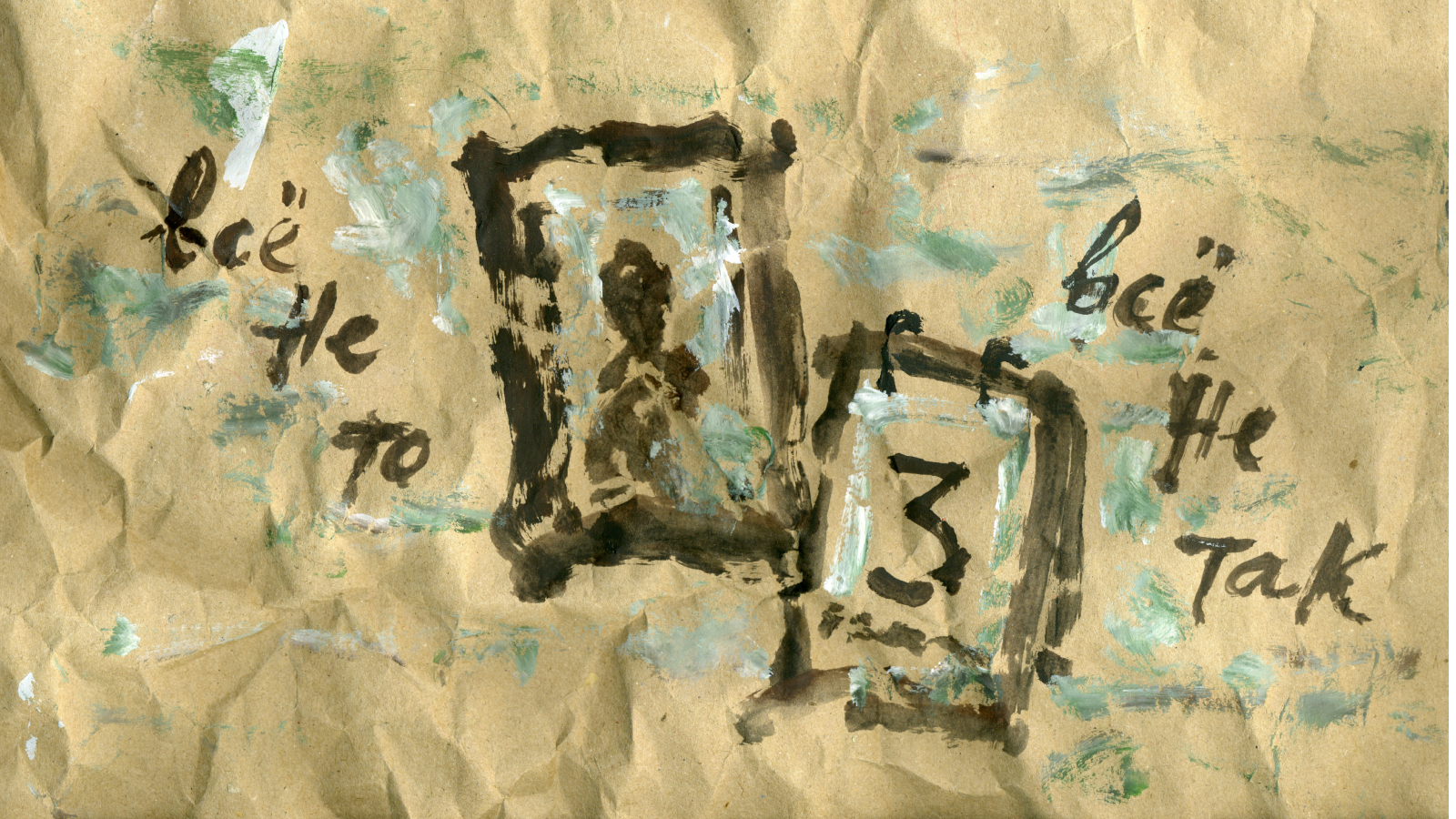Из года в год слова «И снова третье сентября...» звучат из динамиков такси, по всем российским радиоволнам и в головах миллионов школьников и пенсионеров. Феномен популярности хита Михаила Шуфутинского через призму философских концепций Шопенгауэра, Канта и Маклюэна исследует писатель Иван Чернышов. Постироничное эссе объясняет, как в строчке «всё не то, всё не так» отразился народный характер, почему 3 сентября наступает внезапно и может продолжаться бесконечно, что действительно символизирует переворот календаря и почему шлягер можно считать настоящим гимном адекватности.
«3 сентября» неслучайно обрела новую широкую популярность именно в конце 2010-х — начале 2020-х гг.: эта песня оказалась удивительно созвучной современности. Главным образом, конечно, оказался созвучен текст, а не аранжировка, поэтому мы сейчас будем говорить только о тексте, а точнее — о первом куплете и припеве.
Об исполнении Михаила Шуфутинского говорить вообще представляется бессмысленным, потому что о нем нечего добавить к тому, что оно мастерское, чарующе искреннее и вообще фундаментально прекрасное от первой до последней ноты.
«3 сентября» — выдающийся текст. Возможно, выдается он как раз сейчас, когда актуален, а затем отойдет в сторону, но феномен популярности «3 сентября» требует более серьезного осмысления, чем мы видели прежде. Итак, обратимся к тексту.
Как в музыке есть сильная доля, так в литературе существует сильная позиция в тексте. Обычно самой сильной позицией, единственным местом присутствия в тексте автора, а не рассказчика или лирического героя, считается заглавие, которое программирует восприятие текста.
Однако в случае с песней подобное программирование не работает, если только ведущий или сам исполнитель не объявляет песню. Мы ставим песню «3 сентября» и знаем, что это «3 сентября», если только какой-то шутник не подсунул нам рикролл, но вот сам Шуфутинский в студийной версии не начинает исполнение со слов «3 сентября», следовательно, сильной позицией текста становится первая фраза, сказанная исполнителем. В песне, таким образом, по преимуществу сдвигается фаза общения лирического героя с аудиторией: автор, который дает тексту название, совершенно устраняется из дискурса текста, контекста и адресата, если название песни не объявляется (отсюда очень важно обращать внимание на поведение артиста: объявляет он песни или нет, особенно если перед нами автор-исполнитель — это не что иное, как модель взаимодействия с публикой, более или менее диалогичная).
Итак, первое, что поет Шуфутинский, программирует восприятие слушателя. Это воздействие широко известно под названием синдрома утенка. А первое, что поет Шуфутинский, — «Всё не то, всё не так». Эта фраза, лаконичная по форме, необъятна по глубине. Практически любой современный слушатель автоматически с ней согласится, «внимательно коль приглядеться сегодня», как писал Пригов.
Эта фраза, впрочем, универсальна: вспомним героев Достоевского, для которых и карта звездного неба — «всё не то, всё не так». Возможно, здесь ухвачена национальная черта, определенный максимализм, но максимализм негативный, максимализм недовольства. Это не экзистенциальная тревога-ангст по Кьеркегору «Что-то не так», где мы можем догадаться, либо логически докопаться до причины тревоги — нет, перед нами сплошное, тотальное отрицание: не так абсолютно всё.
«Всё не так» — это мог бы сказать русский Кьеркегор, хотя, в принципе реальный русский Кьеркегор Достоевский нечто подобное и сказал.
Вернемся к тексту «3 сентября». Итак, с первых слов мы уже настроены максималистски-негативно, раздраженно-пессимистично, это такой молодой Шопенгауэр в России, такой желчный Печорин. В этом ничего удивительного, если вспомнить не менее максималистский и универсальный лозунг Маклюэна «Средство есть сообщение» и его аргументацию о том, что средство массовой коммуникации легче всего программирует именно негатив (в оригинале — ненависть, и это действительно праведное негодование лирического героя к негодному, в котором неявно выражена тоска по годному, по идеалу).
Следующая фраза («Ты мой друг, я твой враг») обозначает следующую стадию конфликта; если в первой фразе лирический герой показан нам в разладе с миром, то вторая фраза добавляет второе лицо («ты»), оценка взаимоотношений с которым противоположна: герой воспринимает второе лицо как друга, второе лицо относится к герою негативно. Перед нами классический пример дедуктивной проекции: сначала совершается переход от общего к частному: всё не то — частность не та, а затем осуществляется проецирование лирического героя на второе лицо: «это не я считаю тебя врагом, а ты меня».
Но это лишь один вариант интерпретации, в котором лирический герой представлен именно героем, т.е. актором, активно конструирующим мир. Обратный вариант интерпретации первой строчки не менее жизнеспособен, ведь точно так же вероятно, что герой оценивает частность адекватно и действительно положительно относится к тому, кто воспринимает его как врага, вследствие чего возникает болезненный диссонанс в восприятии героем мира — в таком случае, перед нами индуктивный переход. Иными словами, первая строка предлагает нам два противоположных варианта интерпретации, что буквально заложено антонимией посылок «друг/враг».
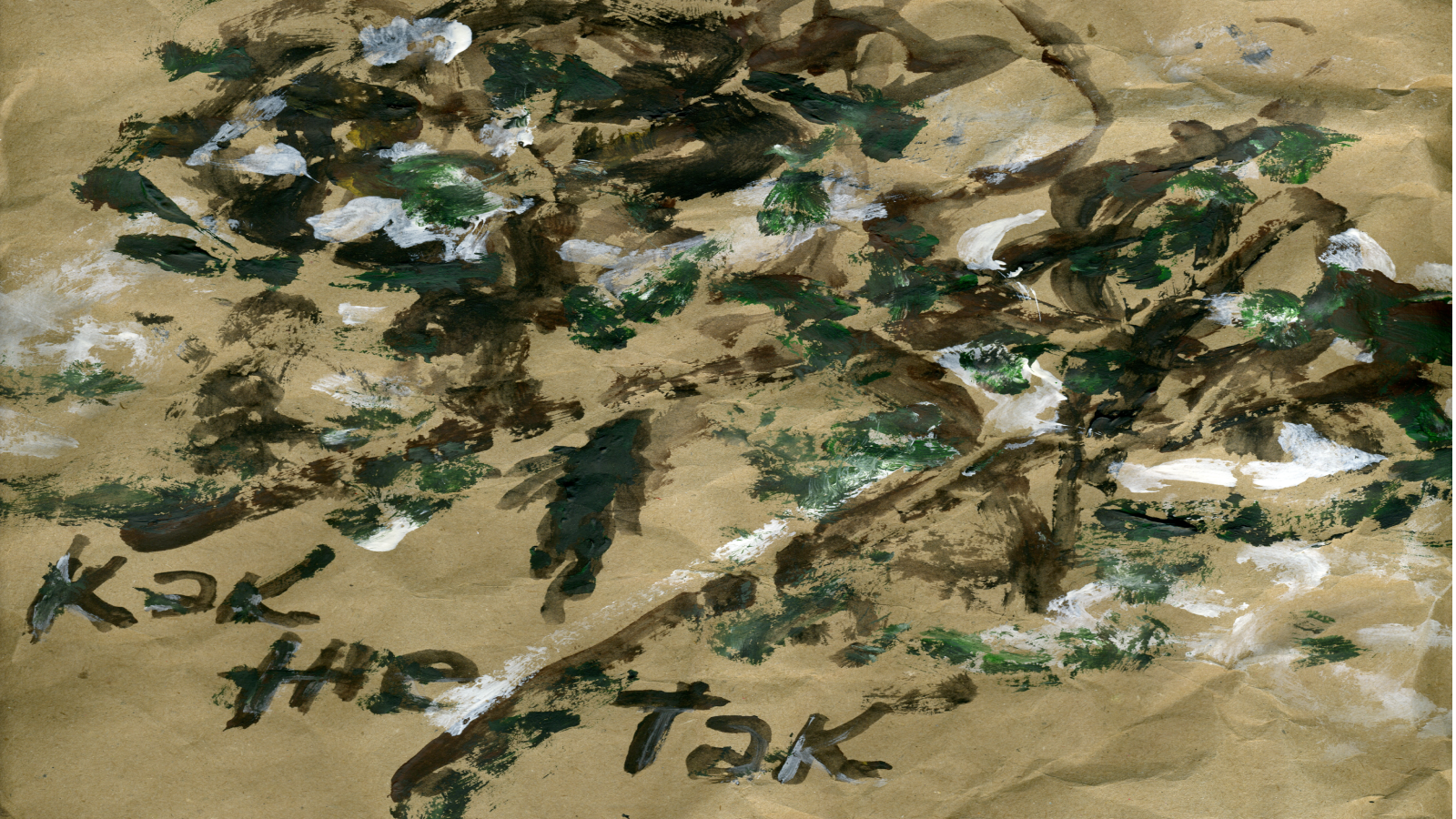
Следующая строка в принципе не предлагает новой информации, подчеркивая замешательство героя («Как же так все у нас с тобою?»), которые мы и так могли считать, исходя из первой строки. Дальнейшие строки куплета на буквальном уровне восприятия закладывают информацию о развитии любовной истории, которая, как мы уже знаем, завершилась 3 сентября, однако здесь важны два мотива: нарушение клятвы (кем — не говорится, и обе интерпретации остаются равноправными) и мотив московского текста — для чего нам указываются бульвары Москвы?
Московский текст, как известно, оформился в виде метатекста ощутимо позднее петербургского, который сформировался в период «золотого века русской литературы» от Пушкина до Достоевского, в то время как московский текст явился продуктом ХХ в., причем даже не все исследователи связывают его с «серебряным веком»: по мнению И.Н. Сухих, московский текст начался с «Мастера и Маргариты», что несколько дискуссионный вопрос, поскольку в той или иной степени его черты ярко проявлены в творчестве, например, А.М. Ремизова и И.С. Шмелева, первый из которых очевидно плоть от плоти модернист и канонический писатель «серебряного века».
Как бы то ни было, «3 сентября» пускает некий якорь ассоциаций в сторону московского текста. Что за бульвар имеется в виду, неясно. На сегодняшний день в Москве насчитывается 38 бульваров, и если даже мы вычеркнем число похорошевших и новообретенных бульваров при Собянине, их число все равно будет велико для однозначной идентификации. Поскольку бульвары употреблены во множеством числе, очевидно, их не менее двух, а поскольку песня предназначена к распространению средствами массовой коммуникации, логично предположить, что должны подразумеваться бульвары, известные не только москвичам, но и тем, кто бывал в столице в качестве гостя или просто что-то слышал о Москве и ее достопримечательностях. Исходя из этого предположения, выдвинем гипотезу, что имеются в виду Чистопрудный и Цветной бульвары как наиболее известные за пределами столицы. Если эта гипотеза верна, смысловая нагрузка фразы получается следующей: Цветной бульвар, вероятнее всего, ассоциируется с цирком, смехом, комическим началом; Чистопрудный бульвар — с памятником Грибоедову, автору комедии «Горя от ума». Таким образом, подтекст фразы вырисовывается следующий: время в виде смены сезонов с весны на осень — а это сельскохозяйственное циклическое время мифа — играет с лирическим героем злую шутку, отнимая у него любовь, и этот комизм универсален — от народного, площадного комизма циркового искусства клоунады до высокой театральной комедии классика Грибоедова, в которой уму, как известно, достается горе. И, вероятно, здесь, в подтексте, обозначается ассоциация лирического героя с Чацким, которая может быть заронена как автором и не осознаваться самим лирическим героем, так и быть скрытым намеком самого лирического героя, который историю собственной любви сопоставляет с историей Чацкого. Причем здесь, в свою очередь, тоже возможны два варианта: когда лирический герой осознаёт эту ассоциацию и только скрывает намеки на нее, стесняясь или оставляя ее только для «своих» или для догадливых слушателей вроде нас с вами, или лирический герой чувствует эту связь только подсознательно, отчего она вытесняется глубоко в подтекст.
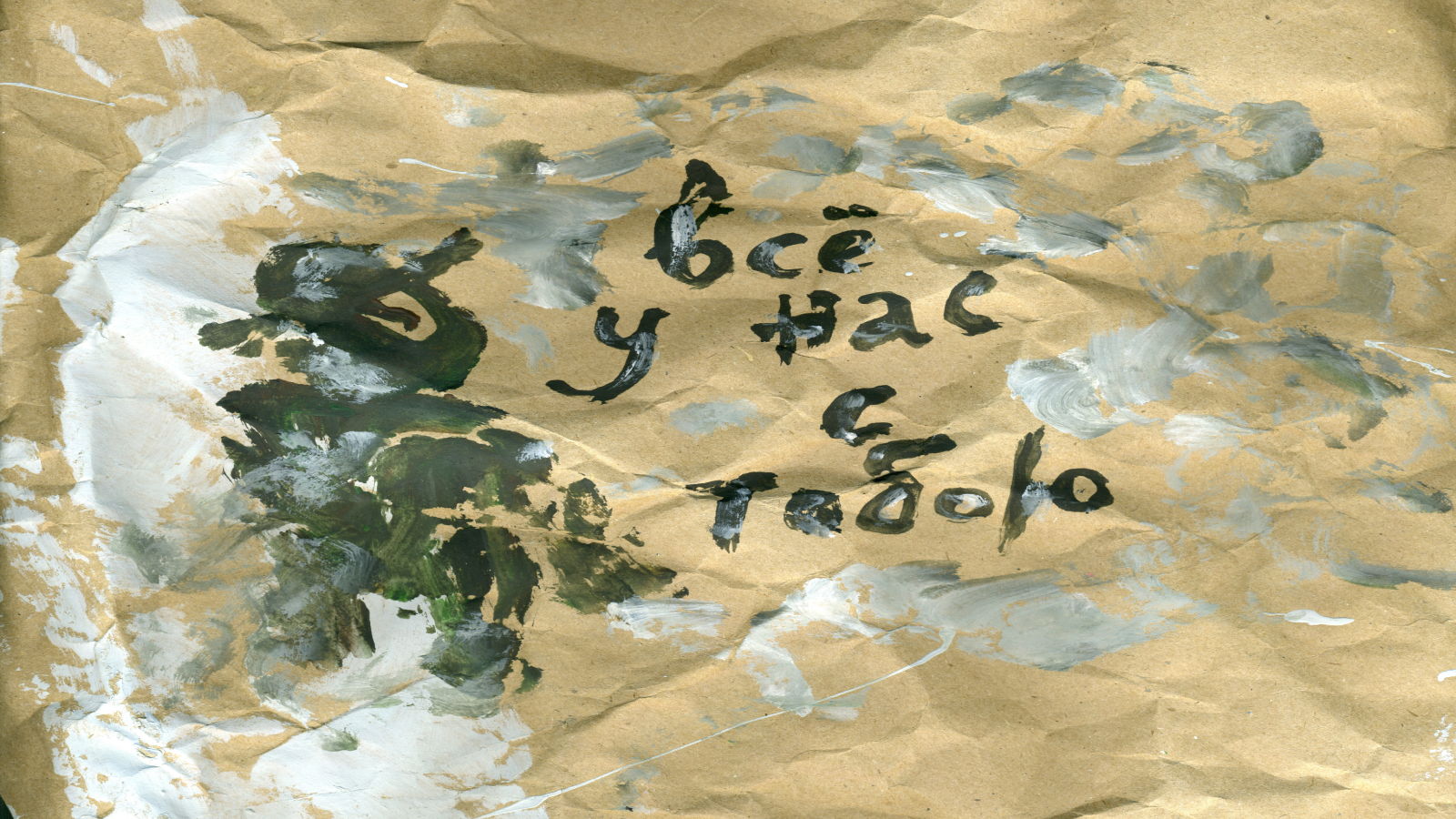
На простой метафоре «костры рябин» мы останавливаться не будем, отметим только, что ее притягательность связана не в последнюю очередь с фонетикой, чего не скажешь о фразе «как костры горят обещанья».
Но вот мы подошли к грандиозному образу, к перевороту календаря. Буквально здесь все ясно: прошел год, герой переворачивает календарь, и снова 3 сентября. Фигурально перед нами борьба со временем или борьба за время: 3 сентября наступает не неизбежно, а после того, как герой переворачивает календарь; следовательно, если календарь не перевернуть, 3 сентября не наступит — герой управляет временем. Однако, переворачивая календарь, он следует за неизбежностью судьбы, сам открывая Третьему сентября ворота, не противясь необходимому ходу событий. Это действие уже однозначно маркирует героя как активного и отметает одну из интерпретаций, рассмотренных выше, оставляя как достоверную интерпретацию об индуктивном переходе и адекватности героя.
Собственно, отказ от борьбы против судьбы — и есть воплощение адекватности, разумности лирического героя. Переворачивая календарь, он как бы заявляет: я не безумен, я прав в этой ситуации.
Далее песня разворачивается неожиданным образом, однако оставаясь по-прежнему в рамках мифологического мировосприятия: 3 сентября наступает не только после ритуального переворота календаря, но и после взгляда на фото («На фото я твое взгляну — и снова 3 сентября»). Таким образом, 3 сентября перестает быть календарной датой, сконцентрированной в четко определенных пределах 24 часов между 2 и 4 сентября, а словно размывается, размазывается во времени, выходит за свои пределы — очевидно, речь уже идет о трансценденции 3 сентября, оно, совершенно по Канту, устраняет временные границы «и даже повелевает переступить их».
Перед нами не простой пример магического мышления — от взгляда на изображение наступает другой день — это бы просто наделяло фотографию магическим статусом; нет, перед нами именно 3 сентября вылезает за границы, расширяется и распространяется, захватывая другие временные отрезки, эта эксплозия, или, точнее сказать, расплескивание третьего сентября из собственной «ванны» (24 часов между 2 и 4 сентября) происходит после «погружения» взгляда в область фотографии.
Итак, 3 сентября расплескивается — ровно настолько, насколько герой смотрит, чисто по закону Архимеда. Однако недоумение героя («Ну почему? Ну почему?») объясняется не буквальным непониманием законов или закономерностей, но несогласием с ними. Иными словами, герой понимает возможность бунта против законов природы (в духе «Записок из подполья»), но отказывается от такой возможности в силу ее неразумности: он переворачивает календарь, хотя ему это и не по душе.
Таким образом, 3 сентября — настоящий гимн адекватности, который стал созвучен современности в силу того, что мифологизм окружающего мира «выплескивается» на современного человека как никогда активно, «захлестывает» его, и тот, кто не станет отчаянно «цепляться» за собственную адекватность, «нормальность», рискует быть поглощенным «разливом» мифа. Именно к разумности, гармонии, завещанной Аполлоном, призывает Шуфутинский в «3 сентября» — конечно, не «в лоб», не напрямую, а с помощью сложных художественных образов, иносказательно и в высшей степени эстетично. Будем же ценить эту великолепную песню и адекватность как таковую.